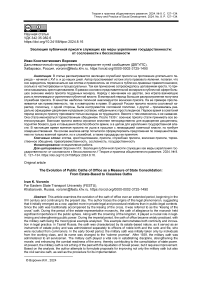Эволюция публичной присяги служащих как меры укрепления государственности: от сословности к бессословности
Автор: Воронин И.К.
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Право
Статья в выпуске: 8, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается эволюция служебной присяги на протяжении длительного периода - начиная с XVI в. и до наших дней. Автор прослеживает истоки этого правового явления, полагая, что оно зародилось первоначально как клятва и применялось не столько в публично-правовых правоотношениях, сколько в частноправовых и процессуальных. Так как принесение сопровождалось целованием креста, то присяга называлась крестоцелованием. В рамках сословно-представительной монархии в публичной сфере большое значение имела присяга подданных монарху. Наряду с венчанием на царство, она играла важнейшую роль в легитимации и укреплении публичной власти. В имперский период большое распространение получила служебная присяга. В качестве наиболее типичной анализируется воинская присяга. На ее примере прослеживается как преемственность, так и новаторство в праве. В царской России присяга носила сословный характер, поскольку, с одной стороны, была инструментом сословной политики, с другой - принималась раздельно офицерами-дворянами и рядовым составом, набранным из простолюдинов. Первое время в советский период военную присягу принимали только выходцы из трудящихся. Вместе с тем изменилось и ее название. Она стала именоваться торжественным обещанием. После 1939 г. военную присягу стали принимать все военнослужащие. Воинская присяга имела огромное значение непосредственно для водворения дисциплины, поднятия боевого духа и повышения боеспособности армии, а в целом для укрепления государственной власти. В настоящее время военная присяга не ушла в прошлое с ликвидацией советской власти, но требует совершенствования. На основе анализа автор попытался сформулировать предложения по совершенствованию не только военной присяги, но и служебной, а также процедуры ее принятия.
Клятва, крестоцелование, присяга, служебная присяга, воинская присяга, торжественное обещание, правопреемственность, сословность, государственность
Короткий адрес: https://sciup.org/149146396
IDR: 149146396 | УДК: 342:35.082.6 | DOI: 10.24158/tipor.2024.8.16
Текст научной статьи Эволюция публичной присяги служащих как меры укрепления государственности: от сословности к бессословности
Дальневосточный государственный университет путей сообщения (ДВГУПС), Хабаровск, Россия, ,
Khabarovsk, Russia, ,
В июле 2015 г. фракция «Единая Россия» внесла в Государственную думу законопроект «О присяге граждан, вступающих в государственные должности законодательной и исполнительной ветвей государственной власти в Российской Федерации». Хотя при голосовании он был отклонен, высказывалось предложение о необходимости внесения изменений в соответствующее действующее законодательство, регулирующее статус отдельных категорий госслужащих в связи с принятием ими присяги. 19 июля 2016 г. на заседании президиума Совета по противодействию коррупции при Президенте РФ были заслушаны и обсуждены изменения в действующие законодательные акты, в которых предполагалось ввести присягу для государственных служащих. Проект присяги был зачитан членом Совета О.А. Плохим1. Однако до сего времени такая присяга как торжественный акт вступления граждан на государственную службу, в том числе депутатов Государственной думы, законодательно не оформлена. Исключение составляют лишь депутаты образований Московской городской думы (п. 6. ст. 34 Устава г. Москвы2) и Хабаровской городской думы (Регламент Хабаровской городской думы, утвержденный решением Хабаровской городской думы от 25 января 2005 г. № 73), но это уровень органов местного самоуправления. Между тем введение присяги позволило бы усилить не только юридическую ответственность государственных служащих, но и моральную.
Цель данной публикации – осуществить ретроспективный анализ публичной присяги служащих как меры укрепления государственности. В связи с этим поставлены следующие задачи:
-
– сформулировать методологию данного исследования применительно к теме, связанной со служебной присягой;
-
– дать обзор научной литературы по теме исследования;
-
– определится с терминологией, касающейся темы исследования (клятва, крестоцелова-ние, присяга);
-
– показать непрерывную эволюцию военной присяги от имперского периода до постсоветского;
-
– сформулировать на основании исследования общие принципы совершенствования современного российского законодательства.
В данном исследовании мы придерживаемся трех основополагающих принципов историкоправовой науки. Прежде всего это принцип объективности, понимаемый нами так, что каждый историко-правовой факт существует независимо от исследователя и объективируется в памятниках права. В связи с этим мы апеллируем не только к современному законодательству, но и к нормативным актам, изданным в XVII–XIX вв. Другим не менее важным методологическим принципом историко-правового анализа является принцип историзма, который нацеливает исследователя на оценку правовых актов, событий прошлого в контексте того времени, а не исходя только из современных реалий. Для полноты анализа важен непрерывный опыт эволюции на протяжении длительного периода существования русской государственности, который можно проследить на примере присяги военнослужащих. Вопрос о правопреемственности в отечественной юриспруденции является дискуссионным. Мы опираемся на позицию отечественных ученых-юристов, специалистов по теории4 и истории права (Томсинов, 2011), признающих преемственность досоветской, советской и постсоветской государственности. Одновременно мы придерживаемся интегративного подхода к изучению права (Мальцев, 2023; Мархгейм, 2016), в частности такого важного его института, как присяга. Ее познание не исчерпывается узкоправовыми аспектами, а включает необходимость обращаться к истории права и государства, взаимодействию в ней светских и сакральных начал.
Обзор литературы по теме исследования позволяет выявить степень изученности сформулированной нами темы. Внимание к служебной присяге как объекту теоретического изучения и практического использования возросло во второй половине XIX в. в связи с реформами, затронувшими все сферы общества, включая военную. Тогда же вышли специальные труды, предназначенные для офицеров, касающиеся проведения воспитательной работы в армии1. Особую роль воинской присяге отводил выдающийся российский военный теоретик генерал М.И. Драго-миров2. В начале ХХ в. на страницах военного издания «Разведчик» он вступил в открытую дискуссию с В.Г. Станкевичем по вопросу о необходимости изменения ее текста3. Если М.И. Драгомиров выступал с консервативных позиций, рассматривая присягу как некое торжественное обещание, имеющее сакральное значение, то его оппонент апеллировал не к чувствам, а к разуму, требуя ее предельно упростить. В советский период к этой проблеме обратились историки партии, рассматривая воинскую присягу в контексте политико-воспитательной работы в Красной армии и на флоте (Сувениров, 1976). Каких-либо специальных работ, написанных в это время и посвященных присяге, нами не обнаружено. Вероятно, это связано с тем, что сфера применения служебной присяги сузилась до воинской, а ее роли не придавали столь существенное значение на фоне развернутой комплексной политико-воспитательной работы, проводимой комиссарами и политработниками в армии.
Интерес ученых к служебной присяге возрос в постсоветский период, благодаря чему эта тема подверглась научному осмыслению. Традиционно к ней обращаются военные историки. При этом военная присяга рассматривается в контексте исторических событий и героических побед Российской армии (Бенда, 2009). Данная тема оценивается с позиции социологии и управленческой науки (Кавеев, 2019; Чаплицкий, 2016). При этом авторы публикаций предлагают расширить сферу применения присяги, рассматривают ее не в узковоспитательном плане, а широко, связывая ее значение с укреплением государственного суверенитета. Не обошли эту тему вниманием и культурологи (Кормина, 2004). Наибольшее значение для нас имеют работы историков (Белоусов, 2008) и теоретиков права (Русакова, 2016). Так, Н.Г. Русакова попыталась определить юридическую природу присяги, высказав мысль о том, что она является одновременно и юридическим фактом, и юридическим символом (2016: 454). Не оспаривая последнее, мы полагаем, что правовой феномен присяги нельзя сводить к юридическому факту. Зачастую присяга не только и не столько порождает правовые последствия, сколько и используется главным образом в целях регистрации (фиксации) изменения правового статуса личности.
-
I. Клятва, крестоцелование, присяга . Клятва – торжественно провозглашенное обязательство, заверение или обещание что-либо делать или не делать – известна с древности у многих народов и восходит по времени к догосударственному периоду. В истории отечественного права присяга вплоть до ХIХ в. отождествляется с крестоцелованием, так как произнесение торжественных слов сопровождалось целованием креста. Это происходило в трех случаях: во-первых, при заключении сделки, когда присягающий клялся выполнить взятые на себя обязательства; во-вторых, при свидетельствовании по гражданским и уголовным делам, сопровождаемом ордалием (испытанием огнем, железом, водою и т. д.); в-третьих, при поступлении на службу к господину, когда давалась клятва верности. Таким образом, клятва в широком смысле была существенным элементом как процессуального права, так и материального, как частного, так и публичного.
Однако в узком смысле под присягой следует понимать клятву на верность службы самодержцу (великому князю, царю, императору). В XV – первой XVI столетия она давалась великому князю московскому в индивидуальном порядке бывшими удельными князьями. Одновременно с присягой (клятвой) они лишались права перехода на службу к другим великим князьям. Со второй половины XVI в. присяга на верность царю давалась уже всем населением Московского государства. Таким образом, акт венчания на царство утверждал божественное право венценосной особы – царя – управлять подданными, а акт принятия присяги населением – обязанность подданных «верой и правдой» служить государю.
Особенность такой присяги состояла в том, что она, как правило, была обращена к персонифицированному адресату, т. е. к царю, а с введением в нее имен царицы и их детей становилась присягой и всей правящей династии. Вторая особенность присяги на верность подданных заключалась в том, что она включала в себя главным образом обязанности, которые должны были нести подданные по отношению к своему суверену (с личностью царя, а затем и императора отождествлялся суверенитет государства). Перечень обязанностей подданных содержал запреты, которые, по сути, формировали понятие «государственные преступления». Помимо общих требований не переходить на службу другому государству, не разглашать государственную тайну, сюда входили и такие требования, как «не хотети зла государю», т. е. деяние и умысел зачастую смешивались. Характерно, что торжественные заверения подразумевали и санкции, в том случае если подданный их нарушит. Устанавливалась тройная ответственность: перед Богом, церковью и государством в лице государя. В документах начала XVII в. – времен Смуты – появляется даже такое понятие, как «крестное преступление»1.
При первом царе династии Романовых – Михаиле Федоровиче – появилась уже собственно служебная присяга, которая давалась при вступлении не нового царя на престол, а того или иного лица на службу или приурочивалась к какому-либо важному событию, меняющему статус суверена. Таким событием стала, например, женитьба царя Михаила Федоровича в 1627 г., что по древней правовой традиции делало мужчину самостоятельным субъектом права. Присяга состояла из двух частей: 1) общая часть – текст присяги, которую обязательно должны были произнести только подданные, находившиеся на государевой службе; 2) «приписки», т. е. особенная часть, включавшая служебные обязанности придворных чинов, дававших клятву. При этом военных среди присягающих не было (Воронин, Кодинцев, 2024: 64–56).
Ко времени Алексея Михайловича относится документ «Чин бываемый, како подобает егде кто хощет Государю Царю слюжити всею правдою, у его государева дела»2. С одной стороны, указанный «чин» являлся руководством для всех людей, принимаемых на царскую службу, безотносительно их положения в управленческой иерархии, т. е. придворной, гражданской и иной службы, а с другой – по построению он скорее является актом духовным, чем светским, так как построен по законам церковной службы. В то же время это, по сути, процессуальной акт, который предписывает то, как принимать присягу на верную службу царю. Отсюда и название документа («чин»). Однако при этом присягающие на верную службу брали на себя обязательства, соотносимые с требованиями к государственным чиновникам3.
В Соборном уложении 1649 г. крестоцелованию посвящена отдельная XIV глава. Большая часть ее текста касается вопросов процессуального характера, направленных на разрешение гражданских исков. Однако в ст. 10 упоминается о вельможе, ложно целующем крест, вероятно, речь идет о лжеприсяге как должностном преступлении. Законодатель рассматривает его не только как обычное преступление, но и как преступление перед Богом. Поэтому Соборное уложение ссылается на нормы канонического права, одновременно предусматривая уголовную ответственность, вплоть до казни, и церковную – отлучение от церкви4.
Вопрос о присяге рассматривался на Освещенном (церковном) соборе 1681–1682 гг. Собор был созван накануне смерти тяжело больным царем Федором Алексеевичем, старшим братом Петра I. Не по годам талантливый царь испрашивал у иерархов Русской православной церкви согласие на ее реформирование. Один из пунктов повестки собора – вопрос о присяге «по чиновной книге», в которой описаны «чины», т. е. ритуал проведения крестоцелования. «Чиновная книга» делилась на три части, в первой описывался «чин» принятия присяги подданных на верность новой царствующей особе, во второй – при свидетельстве на суде, в третьей – при вступлении в должность (Воробьев, 1885: 135–137). Царя волновало следующее обстоятельство: несмотря на то что при принятии присяги присягающим грозили всевозможные «божьи кары», они постоянно ее нарушали. Ответ иерархов может показаться странным. По первым двум «чинам» они предлагали оставить все как есть. По третьему «чину» (называемому статьей) прозвучало предложение на нарушителей служебной присяги «…наложить свой Государев указ, прощение и страх по градским законам [скорее всего, имелось в виду не церковное право, а светское законодательство. – И. В. ], кто чего за какую вину достоин»5. На наш взгляд, служители церкви вовсе не предлагали отменить служебную присягу, как трактует этот ответ Г.А. Воробьев (1885: 137), но и не уповали «на милость и божью кару», а требовали применить правовые санкции против клятвопреступников. В целом это укладывается в общую тенденцию усиления светского начала в характере и регулировании церемонии принятия присяги.
-
II. Воинская присяга от Петра I до наших дней . К правлению Петра I относится выработка унифицированного текста воинской присяги, которая вошла в качестве второй части преамбулы к Артикулу воинскому – первому военно-уголовному «кодексу» России. Текст этой служебной присяги отличался как по содержанию, так и по процедуре ее принесения. Прежде всего обращает на себя внимание то обстоятельство, что адресатом присяги выступал единолично сам монарх, без упоминания его имени, так как в первой части преамбулы к Артикулу указывалось, от кого исходит закон. Адресантами были не только генералитет, офицеры и простые солдаты, но, согласно пояснению той же преамбулы, и иностранцы, находящиеся на службе в русской армии. При этом каждый из них называл свое имя [я, имярек] и клялся перед Богом царю о верности и послушании. Текст присяги заканчивался фразой: «В чем да поможет мне Господь Бог всемогущий»1.
Отсылка в тексте присяги к закону важна, так как в самом Артикуле дается подробное, зачастую с толкованием в статьях, положение той или иной нормы, касающейся государственных и служебных преступлений, совершенных военнослужащими. Отдельный раздел закона посвящен клятвопреступлению. Клятвопреступника полагалось «…по судейскому приговору жестоко наказать, а иногда и весьма живота лишить»2. Законодатель, правда, не уточняет, о каком клятвопреступнике идет речь – о том, кто нарушил присягу. Однако если это было сопряжено с изменой государству, то наказание такому преступнику – смертная казнь.
При принесении присяги соблюдался сословный принцип: генералы произносили присягу в Военной коллегии, все прочие военнослужащие – в войсках перед строем. Во время церемонии принятия присяги высшие офицеры читали ее, положив левую руку на Евангелие, а правую – подняв вверх с простертыми двумя большими пальцами. Когда клятву принимали солдаты, Евангелие клали перед строем на возвышении, и военнослужащие, подняв правую руку, повторяли за читающим текст присяги. Из документа непонятно, принимали ли в этом участие священники. Тем не менее можно с уверенностью предположить, что, как и при принесении присяги подданными, в процедуре было задействовано духовенство, поскольку ко времени издания Артикула в России существовала служба полковых священников.
Следует заметить, что одно из ранних упоминаний о полковых священниках имеется в воинском уставе, опубликованном в России в 1647 г. при Алексее Михайловиче. Это был вольный перевод с немецкого знаменитого труда Иоганна Якоби фон Вальхаузена Kriegskunst zu Fuss («Военное искусство пехоты»). Автор выдвинул прогрессивные идеи о справедливых и несправедливых войнах, воинской дисциплине, вреде наемничества и др.3
Введение в 1874 г. всеобщей воинской повинности не означало окончательной ликвидации сословных принципов комплектования армии. Многочисленные льготы, имевшиеся в Уставе о воинской повинности для дворянства и городских сословий, в частности для тех, кто имел среднее и высшее образование4, вели к тому, что «солдатскую лямку» по-прежнему тянули представители крестьянского сословия, составлявшего около 80 % всего населения страны. Именно им и был адресован текст присяги, изобиловавший архаизмами начала XVIII в., зачастую малопонятными крестьянам. Армейские чины, видимо, полагали, что крестьянин сам по себе носитель консервативных традиций и для него важен не смысл присяги, а ее сакральная форма, напоминающая молитву.
Будущие офицеры также принимали воинскую присягу перед строем, но при поступлении в военные учебные заведения. Такая традиция возникла еще в XVIII в. (Бенда, 2009: 60). Для них, как и для солдат, это означало начало воинской службы. Хотя военные реформы 1860–1870-х гг. преобразовали военные учебные заведения в образовательные учреждения открытого типа, формально доступные для всех сословий, образовательный ценз давал преимущество дворянам (Гребенкин, 2013). По сути, как и прежде, офицеры-дворяне и солдаты-крестьяне приносили присягу раздельно.
Примечательно, что вплоть до 1917 г. воинская присяга принципиально не изменилась5. Во-первых, она сакрализует государственную военную службу. Во-вторых, сама власть персонифицируется, т. е. присяга приносится суверену-императору, его супруге-императрице и их наследнику, т. е. династии Романовых. В-третьих, присяга сопровождается соответствующими ритуалом и символами. Среди последних почетное место занимает Евангелие, на котором клянутся, и знамя части, под которым принимается присяга. В то же время, учитывая различия между новобранцами по признаку вероисповедания, закон, кроме Евангелия, предусматривал для принятия присяги другие священные книги и предметы для мусульман, евреев и язычников. Кроме того, для каждой из этих групп новобранцев, а также католиков и христиан-протестантов в присягу вносились соответствующие корректировки. В частности, для нехристиан из текста присяги убиралось всякое упоминание о Боге. Присяга принималась на том языке, которым он владел. Для этого, в частности, был сделан перевод текста на тюркские языки. Присяга принималась рядовыми воинами не сразу, а после соответствующей подготовки («курса молодого бойца»), в ходе которой их знакомили с условиями службы, историей части и его знамени. В организации процедуры принятия присяги участвовало духовенство соответствующих конфессий.
Надежды большевиков на то, что после их прихода к власти ополчение заменит регулярную армию, не оправдались. Для защиты «социалистического Отечества» потребовалось создание регулярной армии, спаянной революционной дисциплиной. Для вступления в ряды Рабочекрестьянской Красной армии (РККА) рядовому бойцу необходимо было принять присягу, называемую торжественным обещанием. Текст был утвержден на заседании Всероссийского исполнительного комитета Советов рабочих, солдатских крестьянских и казачьих депутатов 22 апреля 1918 г. и подписан председателем Центрального исполнительного комитета Я.М. Свердловым1. Сам по себе этот факт свидетельствует о преемственности советского права и государства, опиравшейся на дореволюционную практику, как и то, что в строительстве РККА принимали участие так называемые «военспецы» – бывшие офицеры царской армии. Главное в присяге – сакрализация государственной (теперь уже советской) власти и воинской службы. Звучат в ней традиционные для российской военной присяги призывы к самопожертвованию.
Преемственность не исключает, а, наоборот, предполагает учет изменившегося характера государства. Во-первых, в присяге отсутствует всякая отсылка к Богу. Следовательно, нет и дифференциации ритуала принесения присяги и ее текста по признаку вероисповедания присягающих. Текст присяги был единым, и приносилась она под Красным знаменем. Во-вторых, помимо общевоинских требований (крепить дисциплину, изучать воинское дело), в тексте звучали классовые «нотки». В частности, присягающий брал обязательство перед «лицом трудящихся классов». Название самой армии свидетельствует о том, что защищать «социалистическое Отечество» с оружием в руках могли только трудящиеся. Представителям эксплуататорских классов – буржуазии, кулакам, бывшим дворянам, представителям вольных профессий – оружие не доверялось. В-третьих, подчеркивается радикальный характер новой власти и РККА, созданных для «великой цели освобождения всех трудящихся», т. е. осуществления мировой революции. В-четвертых, в заключение текста присяги указано на ответственность воинов за ее нарушение, что подразумевало не только правовые санкции, но и моральные («всеобщее презрение народа»). Лексика присяги включает в себя такие специфические выражения, как «революционная дисциплина», «революционный закон».
В советский период текст присяги неоднократно менялся. Особо хотелось бы выделить присягу образца 1939 г., так как после ее принятия бойцы Красной армии уходили в бой против немецко-фашистских войск и победили злейшего врага человечества – немецкий фашизм. Именно она давала волю к победе, вдохновляла бойцов бить врага. В то же время присяга учитывала изменения, произошедшие в обществе и государстве за 22 года существования советской власти. Принципиально характер присяги не изменился. Однако в тексте фиксировалось образование СССР (такого государства еще не было в 1918 г.). Одновременно исчезла излишняя «революционность», хотя требования к дисциплинированности, ответственности перед законом остались. Согласно Конституции 1936 г., в СССР было построено социалистическое государство, поэтому исчезло нарочитое противопоставление трудящихся эксплуататорским классам, все присягающие – граждане Советского Союза. Одновременно фиксируются верность советскому правительству и готовность выполнить все его приказы. По-прежнему подчеркивались моральная и правовая ответственность военнослужащих за умышленное нарушение воинской присяги2.
Варианты советской военной присяги 1947, 1960 гг. текстуально почти слово в слово повторяют присягу 1939 г. В 1970-х гг. в связи с принятием новой Конституции СССР 1977 г. в ее содержание было включено обязательство по ее соблюдению. Это делало присягу документом прямого действия.
Смена государственного строя в нашей стране в 1990-х гг. отнюдь не отрицает преемственность между советской и постсоветской правовыми системами, хотя их характер в корне поме-нялся1. Действующая воинская присяга была введена в Российской армии в 1998 г. Ее принимали военнослужащие как по призыву, так и по контракту. Присяга принимается под знаменами: Государственным флагом Российской Федерации и боевым знаменем части. Текст предельно краток. Присяга носит индивидуальный характер, так как каждый из присягающих называет свои имя, фамилию и отчество. Присягающий клялся «…свято соблюдать Конституцию Российской Федерации». Далее следовали обязательства строго соблюдать устав, выполнять приказы командиров и начальников, защищать народ и Отечество2.
В 2003 г. в Российской армии было разрешено служить иностранным гражданам. Вместо присяги они давали обязательство соблюдать Конституцию РФ, подчиняться приказам командиров и начальников, следовать воинским уставам, исполнять воинский долг. Понятно, что смена лексики с торжественной клятвы до простого обещания снизила планку требований с иностранных граждан – военнослужащих Российской армии. В этом обещании отсутствует упоминание об Отечестве и святом долге соблюдать Конституцию РФ (п. 3 введен Федеральным законом от 11 ноября 2003 г. № 141-ФЗ)3. В обоих текстах – для граждан и иностранцев – отсутствует упоминание как о моральной ответственности за нарушение присяги и обещания, так и о правовой.
Подведем итоги анализа развития служебной, а затем и воинской присяги, начиная с XVII в. до нашего времени. В нашу задачу не входит анализ ее эффективности. Однако, несомненно, служебная присяга укрепляла дисциплину и боеспособность Российской армии на разных исторических этапах, содействовала подъему ее боевого духа в многочисленных военных конфликтах, в которых Россия, как правило, одерживала победу. В XVIII – начале ХХ в. практика принятия служебной присяги была расширена, она охватила не только придворных, но и всех чиновников, а также военнослужащих. Тем не менее служебная присяга носила сословный характер, поскольку, во-первых, она была инструментом сословной политики царизма, так как укрепляла персональную власть императора и к нему обращалась, во-вторых, дворяне-офицеры и солдаты-простолюдины приносили присягу раздельно. Новая советская власть в 1918 г. ввела присягу в РККА. Более того, в ней вплоть до 1939 г. сохранялись своеобразные черты неравенства прав между трудящимися и нетрудящимися. В дальнейшем она совершенствовалась вплоть до крушения СССР. Российская Федерация сохранила практику принятия присяги военнослужащими. Присяга принимается не только военными, но и служащим правоохранительных органов (в Прокуратуре РФ, МЧС, ФСО, ФСБ, ФНС, ФТС, Министерстве юстиции РФ), отдельными категориями гражданских служащих.
По результатам исследования полагаем возможным сформулировать следующие предложения для совершенствования законодательства:
-
1) ввести в текст присяги военнослужащих и служащих правоохранительных органов ответственность за ее нарушение: без санкций присяга остается юридически ничтожной;
-
2) ответственность должна быть не только перед законом, но и перед народом России, т. е. иметь и правовой, и моральный характер;
-
3) моральная ответственность за нарушение клятвы предполагает апелляцию не только к закону, но и к высшим ценностям нашего народа: Отечеству, Святой Руси, священному долгу, патриотизму, братству народов. Для присяги это вполне уместно. Еще более уместно, чтобы эти высокие слова произносились в торжественной обстановке, в противном случае они будут обесценены.
Список литературы Эволюция публичной присяги служащих как меры укрепления государственности: от сословности к бессословности
- Белоусов И.И. Нормативно-правовые аспекты формирования государственной кадровой политики в Российской армии в первой половине XVIII в. // Право и образование. 2008. № 3. С. 113–121.
- Бенда В.Н. «Присяга на верность…» как одно из средств формирования традиций русской армии и патриотизма в России XVIII в. // Вестник Челябинского государственного университета. 2009. № 12 (150). С. 56–62.
- Воробьев Г.А. О Московском соборе 1681–1682 гг.: опыт исторического исследования. СПб., 1885. 160 с.
- Воронин И.К., Кодинцев А.Я. Царь и его подданные: регистрация статуса личности в царской России в координатах «личность – государство» : монография. Хабаровск, 2024. 151 с.
- Гребенкин А.Н. Правила приема в военно-учебные заведения Российской империи в 1863–1917 гг. // Вестник государственного и муниципального управления. 2013. № 1. С. 53–60.
- Кавеев К.А. Присяга как фактор обеспечения суверенитета России // Управленческое консультирование. 2019. № 4. С. 99–106. https://doi.org/10.22394/1726-1139-2019-4-99-106.
- Кормина Ж.В. Воинская присяга: к истории одного перформатива // Неприкосновенный запас. 2004. № 1. Мальцев Г.В. Нравственные основания права. М., 2023. 400 с.
- Мархгейм М.В. Конституционная присяга в контексте интегративного регулирования // Развитие правового регулиро-вания в XXI в.: тенденции и перспективы: материалы Междунар. науч.-практ. конф., посвященной 140-летию НИУ «БелГУ» : в 2 ч. Белгород, 2016. Ч. 1. С. 37–41.
- Русакова Н.Г. Присяга как юридико-символическое отражение культурных традиций // Юридическая техника. 2016. № 10. С. 453–456.
- Сувениров О.Ф. Коммунистическая партия – организатор политического воспитания Красной Армии и Флота 1921–1928 гг. М., 1976. 290 с.
- Томсинов В.А. Дело о мемориале цесаревича Николая Александровича в Ницце (статья вторая) // Вестник Московского университета. Сер. 11: Право. 2011. № 2. С. 12–33.
- Чаплицкий Ф.Ф. Присяга как основание реализации профессиональных функций государственных служащих // Государственная власть и местное самоуправление. 2016. № 12. С. 44–46.