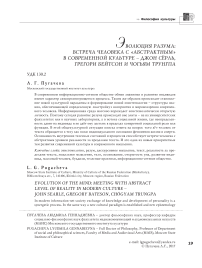Эволюция разума: встреча человека с "абстрактным" в современной культуре - Джон Сёрль, Грегори Бейтсон и Чогьям Трунгпа
Автор: Пугачева Людмила Геннадиевна
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Философия культуры
Статья в выпуске: 3 (77), 2017 года.
Бесплатный доступ
В современном информационно-сетевом обществе обмен знаниями и развитие индивидов имеют характер самоорганизующегося процесса. Таким же образом происходит становление новой культурной парадигмы и формирование новой эпистемологии - структуры знания, обеспечивающей определенную «настройку» восприятия и мировоззрения современного человека. Информационная среда массово порождает эпистемологически открытую личность. Поэтому сегодня развитие разума происходит вне элиты - не на университетских факультетах или в научных лабораториях, а в потоке социальной жизни, где неопределенность давит на индивида и не даёт ему застыть в пределах конкретной социальной роли или функции. В этой общекультурной ситуации поиска ответа на вопрос «кто я?» человек от текста обращается к телу как полю индивидуального осознания феноменов жизни и смерти. Осознанность внутренних телесных состояний и процессов способствует встрече человека с абстрактным уровнем реальности за пределами текста. И это одна из новых приоритетных тем развития современной культуры и современного мышления.
Эпистемология, разум, дискурсивное мышление, текст, реальность за пределами текста, модельное мышление, тело, осознавание, открытость ума, развитие индивида, массовый человек, буддизм, телесные практики, информационно-сетевое общество
Короткий адрес: https://sciup.org/144161083
IDR: 144161083 | УДК: 130.2
Текст научной статьи Эволюция разума: встреча человека с "абстрактным" в современной культуре - Джон Сёрль, Грегори Бейтсон и Чогьям Трунгпа
Современная культура предоставляет человеку невероятный по своему охвату и глубине доступ к информации, такую информационную мобильность, которую современные учителя тибетского буддизма сравнивают с известным с древности феноменом всеведения просветленного разума, для которого в познании не существует никаких границ.
В этой ситуации обмен знаниями и развитие конкретных индивидуумов имеют характер самоорганизующегося процесса. Одновременно – это процесс становления новой культурной парадигмы и формирования новой эпистемологии – структуры знания, обеспечивающей определенную «настройку» восприятия и мировоззрения современного человека. Сама информационная среда имеет такую конфигурацию, которая порождает эпистемологически открытую личность, принимающую не только какой-то один – сциентистский либо религиозный, мифологический, национально-культурноисторический, бытовой (на основе здравого смысла) или ещё какой-либо способ мироописания.
Новая личность одновременно использует различные, порой формально противоречащие друг другу мод е ли мышления и реальности.
В настоящий момент каждый индивид, хотя бы немного склонный к рефлексии, задаваясь вопросом «кто я?», как минимум понимает условный характер любого ответа. Поскольку современная социальная реальность не даёт возможности гарантированно стать кем-то на достаточно продолжительный срок, сопоставимый с продолжительностью жизни. Изменения настолько прочно вошли в восприятие реальности и мировоззрение, что молодые люди, получающие профессиональное образование в течение 4–6 лет, после окончания вуза морально готовы рисковать: работать не по специальности, уехать в другой город, поменять страну, континент, если это приносит им ощущение полноценной жизни, развития, социального успеха. И эта готовность к текучей идентификации, осознание условности любой социальной роли – одна из существенных черт современного мышления.
Человек с открытым мышлением уже не заперт внутри одной системы мышления: он владеет многими контекстами, если осознаёт их общий смысл и пользу для себя. В противном случае разнообразные контексты овладевают человеком, если уровень его осознанности и внутреннего развития невысок: тогда он может чувствовать себя потерянным и не принадлежащим себе, своей стране, национальной культуре, истории, роду, семье. Такой человек зачастую принимает по отношению к настоящему критическую позицию и ищет опору в образах прошлого (например, «раньше – до революций 1917 года, в СССР или до кризиса – было лучше»). Но и в том, и в другом случае человек оказывается в ситуации свободы – осознанной и принятой или бессознательной и насильственной – от жесткого определённого и тем самым устойчивого мира прошлого. Мира – в котором образ реальности сливался с реальностью и служил надёжной опорой для повседневной жизни человека и даже успешно отвечал на экзистенциальные вопросы: о смысле жизни и смерти, предназначении человека, его месте в реальности и перспективах развития цивилизации…
Но современная жизнь не оставляет выбора. Поэтому попытаемся увидеть те преимущества, которые предлагаются человеку сегодня.
Современная поликонтекстуальность культуры и открытость человека, эти, если можно так сказать, технические характеристики, сугубо рабочие параметры функционирования информационносетевого общества, создают условия для встречи, ранее немыслимой в рамках рационалистического, наукоцентристского сознания. А именно – встречи человека и реальности за рамками любых её культурно-исторических описаний.
Сознание классической эпохи, запертое внутри одного мироописания, эпистемологически, то есть в силу устройства знания и процесса познания, не имеет возможности задаться вопросом о реальности за пределами принятой в обществе модели. Так происходит, поскольку познание (например, в рамках религиозной картины мира, когда разум «познаёт мир, созданный Богом») напрямую, непосредственно отождествляет реальность с результатами своей деятельности. В случае неуспеха применения того или иного фрагмента знания речь может идти только об ошибках познания, вызванных «греховностью», «нечистотой» самого познающего ума. Контекстом такой эпистемологической установки является представление о том, что истинная картина реальности гипотетически существует и её познание – вопрос качества инструмента: времени и религиозной чистоты, безгрешности разума. В классической науке поиск истины видится примерно так же.
Установка классической научной рациональности на поиск абсолютной истины формально и генетически вырастает из религиозного мировоззрения. Только здесь ошибки в познании реальности обусловлены не нарушениями в области аксиологии и этики, а искажениями логики и фундаментальными проблемами человеческого мышления и коммуникации, которые Ф. Бэкон уже в ХVII веке называл идолами разума, то есть проблемами технического и технологического характера, которые, правда, соприродны уму человека. В случае религии гарантом истинности знания о реальности выступает Бог, в случае науки – Разум. Но и в том, и в другом случае структура зна- ния не позволяет возникнуть ситуации, когда мыслящий человек осознаёт инструментальный характер мышления, его сопряженность с целями познания и его социально-культурную обусловленность. По сути, человек не понимает прагматического характера картины мира, её природу модели или машины, сконструированной для того, чтобы доставить человека к какой-то запланированной цели, какому-то фундаментальному смыслу или переживанию. Однако это не значит, что таких целей не существует. Скорее, наоборот.
Приведем примеры таких фундаментальных задач: в случае религиозного сознания средневековой Европы этот смысл – единство с Богом; в случае классической науки ХVII–ХIХ веков – власть над природой. А европейский рационализм в целом вдохновлялся такой целью, как тотальная формализация и максимальная математизация знания о реальности. Так или иначе, классическая рациональность во всех своих вариантах запирает человека внутри определённого контекста и делает сам этот трюк ненаблюдаемым… Проще говоря, человек внутри классической модели мышления не осознаёт условный и субъективный характер своего понимания реальности, не предполагает, что субъективное и интерсубъективное мышление конструируют модель реальности и предъявляют её сознанию в качестве самой реальности. (Хотя, строго говоря, осознание моделирующего по отношению к реальности характера познания периодически проявляется в истории философии. Примером может служить проблеск конструктивизма в познании Дж. Вико (ХVII–ХVIII века)).
В современном мире ситуация карди- нально меняется: во-первых, множество по-разному функционирующих моделей реальности, картин мира (политических, экономических, религиозных, национально-культурных, субкультурных и т.д.) создаёт условия для борьбы между различными социальными общностями. Эта ситуация в истории хорошо известна: например, христианизация Рима или военные переделы мира в ХХ веке… Во-вторых, и это преимущество современной культуры – помимо исторически наиболее известного, а, в сущности, всё-таки животного желания победы своей модели над «чужими», мыслящий разум современного человека наблюдает удивительную игру моделей в рамках общества в целом. Более того, он учится (в первую очередь, на уровне человека массы, обычного человека) путешествовать по реальности с помощью нескольких моделей, меняя их в зависимости от внутренних и внешних условий и задач собственной жизни. И, конечно, пытливый ум наших современников замечает полное отсутствие глобального руководства, метапрограммы, или метанарратива, который бы простым и ясным языком объяснял правила спонтанного путешествия по реальности.
Более того, именно очевидность служебного, прагматического характера идеологий и мировоззрений для современного человека создаёт возможность постановки вопроса о встрече человека и абстрактного уровня реальности вне моделей и интерпретаций, вне конкретных целей и задач. По сути, создаются условия для встречи человека с самим собой, которая возможна исключительно во внутренней сфере – на уровне индивидуального сознания.
Тут необходимо пояснить два ключевых момента: что такое абстрактный уровень реальности и что такое внутреннее – индивидуальное – измерение сознания человека.
Начнем со второго – как более привычного для западного сознания феномена. В современной литературе достаточно авторитетной в его описании, очевидно, является концепция Дж. Сёрля [3], специалиста в области философии сознания и искусственного интеллекта, автора знаменитого мысленного эксперимента «Китайская комната». Он ввёл в научный оборот понятие об онтологии первого лица («я»), которая принципиально недоступна для наблюдателя (позиции третьего лица, «он»). Говоря простым языком, онтология первого лица, само это понятие, фиксирует внимание исследователей на том факте, что существует в действительности некая область сознания, которая принципиально доступна только самому человеку. Это – то пространство, которое, собственно, производит каждого из нас в качестве уникального воспринимающего и осознающего существа. Заслуга Дж. Сёрля состоит, конечно, не в открытии этого пространства, очевидного для философии со времён Августина Блаженного («Знаешь ли ты, что ты существуешь? Знаю... Знаешь ли ты, что ты мыслишь? Знаю... Итак, ты знаешь, что существуешь, знаешь, что живешь; знаешь, что познаешь [1]»), но в продвижении онтологического аспекта данной идеи в научном сообществе. Дж. Сёрль ввёл в научное мышление, сделал легитимной идею онтологической равнозначности уникального внутреннего пространства и внешнего физического пространства, которое легко доступно для наблюдения и является опорой науки, – онтологию третьего лица. Другими словами, Дж. Сёрль утверждает, что внутреннее пространство реально настолько же, насколько и внешнее, хотя и принципиально недоступно для измерений с помощью приборов и наблюдению со стороны. Проще говоря, реальность не тождественна измеряемости, то есть категория количества, онтологически связанная с переживанием физического пространства, не является её безусловным критерием. По сути, Дж. Сёрль поставил в рамках эпистемологии вопрос об онтологических полномочиях личности, индивида – его праве удостоверять реальность личностного измерения – внутреннего пространства. Не будет сильным преувеличением сказать, что впервые в истории Новейшего времени разум индивида воспринимается настолько устойчивым, что попытка Дж. Сёрля предоставить индивиду право решать, что реально, а что нет, встречает достаточное понимание со стороны научного сообщества.
Поэтому, несмотря на, казалось бы, частный характер данной проблемы, она является существенным признаком эволюционных изменений в парадигме современного знания. По сути, Дж. Сёрль настаивает на том, чтобы научное сообщество признало реальное существование коллективно ненаблюдаемых феноменов. Конечно, нельзя не отметить того, что каждый человек имеет непосредственный доступ к этим самоочевидным феноменам, не требующим санкции наблюдателя и составляющих основу всех переживаний тела и сознания индивида.
Сама идея самоочевидности для европейской мысли, конечно, не нова, поскольку составляет в определенном смысле базу картезианского рационализма.
Позиция Дж. Сёрля имеет большое методологическое и парадигмальное значение. Ибо благодаря ей создаётся ситуация, когда научное сообщество, условно говоря – сообщество людей, мыслящих как коллективный наблюдатель, почти готово изменить своё жёсткое представление о реальности как об исключительно коллективном интерсубъективном феномене. Если представить на минуту, что лучшие умы современного человечества обратятся к исследованию внутреннего пространства человеческого сознания, то, на наш взгляд, открывается новая перспектива развития разума человека, которой ещё не было в обозримой истории рационального мышления [7]. И это происходит не благодаря отходу от разума, а наоборот, благодаря расширению территории применения разума с его тренированным вниманием, аналитической работой с фактами (в данном случае внутренними: ощущениями, эмоциями, смыслами), эмпирическим и теоретическим инструментарием в целом. Только лабораторией теперь становится само уникальное сознание индивида.
Забегая вперёд, необходимо заметить, что и здесь тоже возможен классический критерий научности – воспроизводимость результатов и коллективная наблюдаемость – но уже в трансформированном виде. Очевидно, если таких исследователей внутреннего пространства становится много, они могут сравнивать результаты своих интроспективных исследований и, таким образом, их объективировать. Не то же ли самое происхо- дит в случае, когда десять учёных смотрят на стрелку осциллографа и соглашаются в том, что она стоит на цифре пять? Ведь каждый член коллектива видит цифру пять своими глазами и не знает в точности, что видят другие… Им приходится просто доверять опыту друг друга, опыту видения, который, как и всякий перцептивный опыт, разворачивается во внутреннем пространстве сознания индивида, в рамках онтологии первого лица Дж. Сёрля! Таким образом, благодаря открытию Дж. Сёрля территория разума и науки расширяется.
Теперь обратимся ко второму ключевому моменту – новому опыту чистой реальности вне интерпретации, который может получить такой исследователь-индивид. Что скрывается за понятием «абстрактный уровень реальности»? Очевидно, что этот опыт может быть назван новым только в контексте научного интерсубъективного мышления, и его новизна заключается в двух моментах: принятии этого опыта в качестве задачи для рационального разума и признании ценности этого опыта для человека научным сообществом. Заметим, что этот опыт не нов, а наоборот, составляет базу классических буддистских, дзеновских, даосских и некоторых других исследований сознания человека на протяжении более чем двух последних тысячелетий. Поскольку современное наукоцентристское сознание до сих пор не выработало инструментария и технологии, дающей возможность выхода к реальности в её собственном целостном измерении – насколько она может быть доступна человеку с его эпистемологической, заданной телом спецификой, необходимо воспользоваться традиционным буддистским подходом.
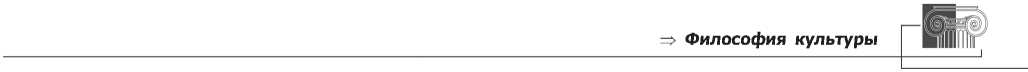
В данном случае хороший вербальный инструментарий, указывающий на целостную территорию за пределами интерпретаций, предлагают буддистские учителя, работающие с западными учениками.
Чогьям Трунгпа Ринпоче так описывает изначальное состояние ума, служащее отправной точкой развития человека и позицией, к внутреннему воссоединению с которой человек идёт в своём индивидуальном развитии:
«Для всякой духовной практики необходимо глубинное понимание отправного пункта, материала, с которым мы работаем.
Если же мы не знаем материала, с которым работаем, наше исследование будет бесполезным, и рассуждения о цели становятся просто фантазией. Подобные спекуляции могут принять форму передовых идей и описаний духовных переживаний; но они только эксплуатируют слабые аспекты природы человека, наши желания увидеть и услышать нечто красочное, нечто необыкновенное … Играть на человеческих слабостях, ожиданиях и мечтах вместо того, чтобы представить людям реальный отправной пункт – то, что они есть на самом деле, – будет по отношению к ним разрушительно и несправедливо.
Поэтому необходимо начинать с того, что мы такое, с того, почему мы ищем … Нам не надо стыдиться того, что мы такое. Как живые существа, мы обладаем чудесной первоосновой. Эта первооснова, может быть, не является особенно просветленной, мирной или разумной; тем не менее мы обладаем почвой, достаточно пригодной для возделывания; мы можем выращивать на ней все что угодно …
В самой глубокой основе существует просто открытое пространство , глубинная почва, то, чем мы действительно являемся . Наиболее фундаментальное состояние нашего ума, до создания эго, таково, что в нём налицо безусловная открытость, основная свобода, качество обширности ; мы обладаем такой открытостью сейчас и всегда обладали ею. Если, например, взять нашу повседневную жизнь и её мыслительные стереотипы, то обнаруживается такой факт: когда мы видим какой-то предмет, в первое же мгновение имеет место восприятие, в котором отсутствует какая бы то ни было логика, в котором нет совершенно никакой концептуализации; мы просто воспринимаем вещь на открытой почве. Но тут же мы немедленно впадаем в панику, начинаем метаться по сторонам, стараемся что-то прибавить к этой вещи, найти для неё название, место локализации и категорию … Вы просто должны видеть то, что вы есть. Зачастую мы склонны искать противоположную сторону, красоту духовности, – и игнорировать самих себя каковы мы есть. Это величайшая опасность … Если мы хватаемся за идеи духовности, самоанализа или трансцендентности “я”, эго немедленно завладевает этими идеями и превращает их в самообман [11, с. 139–156]».
В приведенном отрывке из известной книги Чогьям Трунгпа Ринпоче особое внимание необходимо обратить на критику концептуализации (модельного мышления), восприятие вещей на открытой почве (вне концепций) и опасность поиска высшей реальности с полным игнорированием того, чем мы являемся.
Кроме того, необходимо сделать одно методологическое замечание: неис- кушенному уму западного читателя может показаться, что буддистский автор предлагает некую концепцию, обладающую признаками классической модели в рамках классической рациональности: так как речь идет о вещах и человеке как они есть, по сути дела – о способности разума непосредственно выйти к бытию. Но ведь именно к этой цели направлено религиозное и научное сознание и познание. Однако в данном случае, речь идет не о тексте, не о своде правил или более-менее эффективной технологии, то есть о чём-то, имеющем социально-массовый характер. Автор пишет о специфической встрече индивида со своим собственным внутренним состоянием – измерением первого лица, о котором также пишет Дж. Сёрль. Это означает, что вся работа, которая ждет ученика, вознамерившегося серьёзно познакомиться с этой областью, может быть проделана только в одиночку. И оценивать полученный результат будет только он сам, как и пользоваться в полной мере плодами собственных усилий.
Можно заметить, что этот способ отношения к миру наиболее интимен, он сродни человеческой телесности – первому и последнему форпосту жизни перед лицом смерти. С точки зрения буддизма, о чём пишут многие современные авторы, человеку доступно предельное переживание – окончательный опыт реальности. В этом смысле человеческое познание обнаруживает свой предел – так как в полной мере распространяется и функционирует только «на» и «для» единственного участника данного процесса.
Не углубляясь в подробности этой непростой темы, заметим, что идея встречи человека и реальности, вне научных, философских, бытовых моделей, языковых семантических игр, знаковых систем, культурных смыслов и прочих интерпретационных механизмов, видится науке и философии второй половины ХХ века в целом утопической.
Достаточно вспомнить авторитетную позицию философа, много сделавшего для развития кибернетических идей в психологии и психотерапии ХХ века, исследователя, искренне стремившегося вывести научное познание за существующие на тот момент пределы, – Грегори Бейтсона: «Ментальный мир – разум, мир обработки информации – не ограничивается кожей. Давайте вернёмся к тому положению, что трансформа различия, перемещающаяся по цепи, является элементарной идеей. Если это правильно, давайте спросим: что же такое разум? Мы говорим, что карта отличается от территории. Но что такое территория? Технически говоря, кто-то выходит, вооружившись измерителем или собственным глазом, и создаёт репрезентацию, которую затем наносит на бумагу. То, что оказывается на бумажной карте, является репрезентацией того, что было зрительной репрезентацией у некоторого человека, создавшего карту. Если вы пойдете вспять, то обнаружите бесконечную регрессию – бесконечную последовательность карт. Территория – это “вещь в себе”, и с этим ничего не поделаешь. Процесс репрезентации всегда будет отфильтровывать её, поэтому ментальный мир – это только карты карт, и так до бесконечности. Все “феномены” – “видимость” в буквальном смысле слова [2]».
Однако современная философия не останавливается на идее отсутствия абсолютной реальности в опыте. В новом проекте «Метамодерн» творчески развиваются идеи открытости и принципиальной неукорененности индивидуального взгляда на мир. Голландские авторы Ти-мотеус Вермюлен и Робин ван ден Аккер предложили эти идеи как альтернативу постмодернизма. А. Гусев и М. Серова в интервью журналу “Stenograme” рассказывают о метамодерне как о новой эпистемологической парадигме так: «Речь идёт о радикальной открытости, о все-принятии. И здесь открывается ещё один тонкий момент. Практика осцилляции (раскачивания) производит ощутимый побочный эффект – она даёт понимание того, что ты стационарно не связан ни с одним явлением, не отождествлен ни с чем. Путь индивидуальности – наблюдать эти раскачивания, но не делать своим пространством траекторию их колебания [6]».
Метамодерн – это концепция, продолжающая развитие идеи разума в европейской эпистемологии. Но, позиционируя себя как антисистема, конечно, он близко подходит к переживанию реальности. От радикального конструктивизма и постмодернизма метамодерн отличает «дыхание реальности», которое ощущается лучше всего в трёх его моментах: в том, что он обходится без метанарратива, принимает всё происходящее в равной степени доброжелательно, хотя и не без иронии. Последнее избавляет метамодерн от тяжеловесной фиксированности на форме и поэтому, возможно, не противоречит встрече человека с абстрактным уровнем реальности за пределами текста и, следовательно, конкретных форм выражения реальности. Чисто методологически, о поиске реальности как таковой в метамодерне речь идти не может.
Фокус внимания смещен от фиксации на форме к многообразию и изменению форм, но не отрицает и фиксацию, что и делает возможной встречу человека с самим собой: текучим, изменчивым существом в подвижном потоке реальности. Однако метамодерн – новая парадигма, которая ещё не развернула всех своих возможностей.
В завершение вернёмся к преобладающей сегодня научной (и философской) парадигме. Важно понять, что означает присущее ей отрицание возможности контакта с Реальностью с большой буквы. В основном это значит, что наука и философия имеют коллективный характер. То есть работают со знанием на уровне человека как вида живых существ, использующих языки – естественные и искусственные – в качестве системообразующей характеристики реальности.
Язык реализуется через речь. Он проявляется как дискретное измерение сознания, выражает его дискретный аспект, его устремлённость к конкретному, ограниченному, единичному и одновременно типическому. Таким образом, язык создает модели и системы описания. Понятно, что на этом уровне, так сказать, уровне второй сигнальной системы Павлова, отличающей человека от всех других существ, вопрос о реальности за спиной у символической интерпретационной системы поставлен быть не может – в силу того, что символическая система ограничена своей собственной природой. Проще говоря, символ не есть предмет: сколько ни говори слово мёд, во рту сладко не станет – по крайне мере, у сциентистски настроенного современного человека.
Наука, являясь высшей формой моделирования, связанного с опытом, при- звана обеспечить выживание рода – и вполне логично, что она использует количественные методы и работает для масс.
Но человек не только социален, он в той же мере и уникален. И как уникальное существо человек находится в ряду всех других живых и осознающих свою жизнь существ, стремящихся избежать страданий и желающих счастья. И в этом своем качестве индивида, то есть как обладающий «онтологией первого лица», человек «сделан» из глубокой реальности настолько же, насколько все другие отдельные (как это описывает проводящий границы, математизированный разум) существа и предметы реальности. В этом смысле, Человек – не символ, он – не Слово и не Знак, он не сводим к ним.
Список литературы Эволюция разума: встреча человека с "абстрактным" в современной культуре - Джон Сёрль, Грегори Бейтсон и Чогьям Трунгпа
- Августин Аврелий Творения. Том 1: Об истинной религии / сост. и подгот. текста к печати С. И. Еремеева. Санкт-Петербург: Алетейя; Киев: УЦИММ-Пресс, 1998. 742 с.
- Бейтсон Г. Шаги в направлении экологии разума: избранные статьи по психиатрии / пер. с англ. и предисл. Д.Я. Федотова. Изд. 2-е, испр. Москва: URSS, 2005. 245 с.
- Васильев В.В. Глава 2. Сёрл: проще простого! // Трудная проблема сознания. Москва: Прогресс-Традиция, 2009. С. 54-105.
- Конюхов Д.А. Феномен молчания в философии и религии // Путь науки. Международный научный журнал. 2014. № 7 (7). С. 57-59.
- Лао Цзы. Дао Дэ Цзин [Электронный ресурс] / перевод Ян Xин Шуна // Библиотека Фонда содействия развитию психической культуры (Киев): [веб-сайт]. Электрон. дан. URL: http://www.psylib.org.ua/books/_laotz01.htm (дата обращения: 9.05.2017)