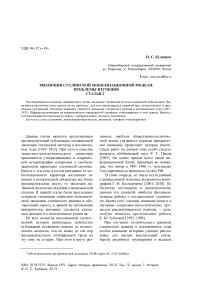Эволюция сталинской мобилизационной модели: проблемы изучения. Статья 2
Автор: Кузнецов Иван Семенович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 1 т.12, 2013 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются основные направления и этапы эволюции сталинской модели социальной мобилизации. Выявляются различные точки зрения на эту проблему, для чего анализируется широкий круг отечественных и зарубежных публикаций. Основное внимание уделяется эволюции сталинского режима в послевоенные годы (1945– 1953). Обращается внимание на ограниченность концепции об «апофеозе тоталитаризма» в этот период. Вместе с темвысказываютсясомнения по поводу «либерализации» позднего сталинизма.
Сталинизм, мобилизационная модель, эволюция, "апофеоз тоталитаризма"
Короткий адрес: https://sciup.org/147218682
IDR: 147218682 | УДК: 94
Текст научной статьи Эволюция сталинской мобилизационной модели: проблемы изучения. Статья 2
Данная статья является продолжением предшествующей публикации, посвященной эволюции сталинской системы в послевоенные годы (1945–1953). При этом в качестве теоретико-методологического ориентира принимается утверждающаяся в современной историографии концепция о «мобилизационном характере» сталинской системы. Вместе с тем если в целом признание ее мобилизационного характера постепенно занимает в исторической литературе все более фундаментальное место, то эволюция названной модели исследована в минимальной степени. В первой статье были прослежены основные тенденции социально-экономической эволюции сталинского режима в обозначенный период, в данной же публикации приоритетное внимание уделяется ключевым трендам его политического развития.
Из всех аспектов послевоенной отечественной истории наибольшее количество публикаций посвящено именно ее политическим аспектам, тем не менее до сих пор фундаментального обобщающего труда на эту тему не создано. При этом в кругу раз- личных проблем общественно-политической жизни указанного периода приоритетное внимание привлекает история власти. Среди работ на данную тему особо следует выделить обобщающий труд Р. Г. Пихоя [2007]. Он ценен прежде всего своей информационной базой, принимая во внимание, что автор в 1991–1996 гг. возглавлял Государственную архивную службу РФ.
В свою очередь, из числа исследований о репрессивной политике выделяются монографии Г. В. Костырченко [2001; 2010] . По богатству источников и аналитическому уровню это, пожалуй, наиболее фундаментальные работы о послевоенном сталинизме. Кроме того, сделаны значимые шаги и в изучении социально-психологических процессов рассматриваемого периода, – здесь особую ценность представляют работы Е. Ю. Зубковой [1993; 1999] .
При изучении политического развития сталинского режима в послевоенные годы особое внимание историки уделяют расстановке сил внутри властвующей элиты, борьбе различных группировок в высшем руководстве. Конкретные характеристики этих процессов нередко отличаются значительной противоречивостью, что вполне понятно, так как они основаны, как правило, на различных косвенных данных.
Широко распространена точка зрения, что в последние годы сталинского правления в правящих кругах разгорается (или активизируется) борьба различных группировок, чему способствовало и постепенное снижение работоспособности стареющего «вождя». Многие историки считают, что основная тенденция борьбы среди его «соратников» состояла в постепенном оттеснении от власти старых кадров (Молотова, Кагановича, Ворошилова) и повышении роли молодых деятелей (Берия, Жданов, Маленков), между которыми, в свою очередь, разворачивается острое соперничество.
По этому поводу еще в начале 1960-х гг. известный американский советолог Р. Кон-квест выдвинул гипотезу о борьбе в недрах сталинской элиты двух группировок: во главе с А. А. Ждановым, с одной стороны, и Л. П. Берией и Г. М. Маленковым – с другой [Conquest, 1961. P. 18–49] . В настоящее время эта интерпретация получила наибольшую известность, стала своего рода «общим местом» не только в исследованиях, но и в учебной литературе.
В контексте указанной версии представляется следующая динамика противоборства двух названных «кланов»: вначале происходило возвышение группы А. А. Жданова, в результате чего в мае 1946 г. Г. М. Маленков был лишен постов члена Политбюро, секретаря ЦК и направлен на работу в Ташкент (историки спорят, был ли он действительно удален из Москвы, или вскоре Сталин «сменил гнев на милость»). В результате доминирующее положение в «верхах» завоевывают выдвиженцы Жданова, прежде всего – Н. А. Вознесенский и А. А. Кузнецов. Последний, став секретарем ЦК, начинает проверку деятельности ведомства Берии. Однако в июле 1948 г. на заседании Политбюро вторым секретарем ЦК вместо Жданова стал Маленков, и вскоре Жданов умер (есть версия, – при содействии Берии). После этого лидерство перешло к группе Берии–Маленкова, что сопровождалось вытеснением и уничтожением выдвиженцев Жданова.
По-разному трактуются финальные страницы рассматриваемого противостояния.
Широко распространена следующая версия, выдвинутая еще в начале 1960-х гг. известным немецким советологом В. Шарндор-фом: в конце своей жизни Сталин готовил новый «отстрел» руководящей верхушки и замену ее молодыми кадрами. В интерпретации названного автора, одним из подступов к этому было проведенное после ХIХ съезда партии (1952 г.) преобразование Политбюро ЦК ВКП(б) в Президиум – более широкий орган, где старые кадры были «растворены» среди молодых выдвиженцев [Scharndorf, 1961. S. 70–75].
В свою очередь, в книге «классика» советологии А. Авторханова «Загадки смерти Сталина» была сформулирована версия, что в конце рассматриваемого периода под угрозой нового «отстрела» представители новых и старых кадров объединились, сформировали заговор и изолировали Сталина, фактически отстранив его от реальной власти [1993. С. 164–254].
Более распространена гипотеза, что в конце сталинского правления борьба среди властвующей элиты фокусируется в новом направлении, связанном с опасениями стареющего «вождя» по поводу непомерного возвышения Берии. В этом контексте нередко трактуются такие события, как «мингрельское дело» и арест в июле 1951 г. министра государственной безопасности В. Г. Абакумова (как считается, ставленника Берии).
По версии ряда авторов, в этой борьбе победу одержал наиболее энергичный «соратник вождя»: предполагается, что к марту 1953 г. Берия скомпрометировал ближайших помощников Сталина, а также его лечащих врачей и, возможно, поспособствовал смерти диктатора. Эту гипотезу, в частности, поддерживал такой осведомленный современник рассматриваемых событий, как К. М. Симонов [1988. С. 118–119] . Не исключал такого варианта в своих доверительных беседах с писателем И. Ф. Стадню-ком и ближайший «соратник вождя» – В. М. Молотов [Стаднюк, 1993. С. 382] . В свою очередь, решительно оспорили названную версию авторы, впервые опубликовавшие ряд материалов следствия по делу Берии [Попов, Оппоков, 1991. С. 355–358].
Говоря о мотивах всех этих конфликтов в правящих кругах, большинство авторов характеризуют их как беспринципную борьбу за власть. Лишь некоторые усматривают в действиях противоборствующих лиц и группировок выражение определенных политических позиций. Наиболее характерна в этом плане концепция А. А. Данилова и А. В. Пыжикова о «платформе» «ленинградской группы», которая, согласно данной версии, выдвигала альтернативный вариант развития страны (приоритет группы «Б» и определенная либерализация политической системы). По мнению названных авторов, в свою очередь, противоположная группа Берии–Маленкова выражала прежде всего интересы ВПК, что и предопределило ее победу в борьбе с соперниками, так как развитие этого индустриального сегмента все более приобретало доминирующее значение [Данилов, Пыжиков, 2001. С. 175–184].
Пожалуй, наиболее радикальная интерпретация противоборства в правящих кругах дается в публикации А. Г. Маленкова. Автор – сын Г. М. Маленкова, доктор биологических наук, его работа содержит не только ценные мемуарные свидетельства, но и интересные историко-политологические размышления. По его мнению, в сталинский период в правящей верхушке боролись три группировки, разногласия между которыми были весьма серьезными. Первая из них (Л. П. Берия) представляла карательносиловые ведомства и имела наиболее консервативный характер, поскольку прочность ее позиций определялась сохранением тоталитарных порядков. Вторая группа – «партократы» (Н. С. Хрущев) – выступала за умеренные реформы, за устранение крайностей репрессивного режима. Наиболее же прогрессивной являлась третья группа – «технократы» (Г. М. Маленков), как в силу их большей образованности (Маленков, как известно, был по образованию инженером-энергетиком), так и ввиду лучшего понимания ими научно-технических приоритетов [Маленков, 1992. С. 74–75].
Помимо такого рода трактовок, некоторые публицисты национал-фундаменталист-ского толка характеризуют Жданова и «ленинградцев» как своего рода «русских националистов», противостоявших группе Берии – Маленкова, имевшей, как они утверждают, «космополитические», «проамериканские» и даже «сионистские» ориентиры. В этом контексте отмеченная ранее версия об «убийстве» Сталина преподносится в весьма специфической окраске. Одним из примеров такого рода утверждений могут служить публикации Ю. И. Мухина (редактора известной газеты «Дуэль») (см., например: [Мухин, 2004. С. 257–263]).
В противоположность рассмотренным подходам, некоторые историки отрицают наличие серьезных конфликтов в позднесталинском руководстве. Так, автор одного из наиболее известных в настоящее время обобщающих курсов по истории СССР Дж. Хоскинг (Великобритания) выдвинул тезис о монолитной сплоченности сталинского окружения, которое в силу этого становилось «потенциальным препятствием сталинскому опыту неограниченной власти» [Hosking, 1985. P. 315].
Наиболее последовательно версия об отсутствии межгрупповой борьбы в сталинском окружении обосновывается в работах О. В. Хлевнюка. Основные концептуальные положения о послевоенном периоде нашли отражение еще в его монографии, посвященной утверждению сталинской диктатуры . В заключении данного труда утверждается: «Открывшиеся архивы <…> не подтверждают версию о наличии в Политбюро “фракций”». В трактовке автора, до конца жизни Сталина его власть была абсолютной, поэтому о серьезной борьбе различных группировок не могло и быть речи. При этом основную тенденцию политической эволюции в послевоенные годы названный автор представляет следующим образом: «…В недрах диктатуры формировались предпосылки для возрождения политической олигархии – “коллективного руководства”. Соратники Сталина, утратив политическую самостоятельность, обладали определенной ведомственной автономностью при решении оперативных вопросов, входивших в сферу их ответственности. Причем эти тенденции усиливались по мере того, как сам Сталин неизбежно сокращал свое участие в повседневном руководстве страной. <…> Как фактор ограничения диктатуры (и, соответственно, предпосылку олигархизации власти) можно рассматривать формирование квазиколлективных механизмов принятия решений в последние годы жизни Сталина. <…> Олигархическая ведомственность могла существовать без диктаторской составляющей. Этим объяснялась относительная легкость перехода <…> от диктатуры к “коллективному руководству” после смерти Сталина» [Хлевнюк, 2010 . С. 446–462].
В свою очередь, в совместной монографии О. В. Хлевнюка с британским историком Й. Горлицким утверждается: «Наша книга оспаривает ряд положений, распространенных в литературе. Прежде всего мы не обнаружили свидетельств в пользу разного рода версий о заговорах соратников против Сталина, о фактическом его устранении от власти в последний период жизни. Нам не удалось обнаружить также следы деятельности устойчивых “фракций” соратников Сталина» [Хлевнюк, Горлицкий, 2011. С. 15].
Названные авторы пишут: «Относительная кадровая стабильность в высших эшелонах власти была важной предпосылкой подспудной “олигархизации” Политбюро, тренировки навыков “коллективного руководства” у сталинских соратников. Еще одной важной предпосылкой усиления потенциала “коллективного руководства” была практика делегирования диктатором значительной доли полномочий своим соратникам. Причина этого очевидна: возможности Сталина охватить решение всех задач, в принципе небезграничные, еще больше уменьшались по мере угасания его физического здоровья» [Там же. С. 9–10].
Если в данном случае отсутствие борьбы в «верхах» аргументируется сохранением неограниченной сталинской власти, то публикациях С. Т. Кремлева это мотивируется крайней погруженностью сталинских соратников в работу. Названный автор (настоящая фамилия Брезкун) издал целый ряд крайне апологетических работ о Л. П. Берии, а также якобы «случайно полученные» «дневники» этого деятеля. В своем обширном труде он пишет: «Когда работы по уши – не до интриг. Чем меньше работы – тем выше вероятность их возникновения». По утверждению автора, наибольшие основания для «интриг» имели «аппаратчики» (например, Вознесенский и Маленков), но это была лишь потенциальная опасность. Из всего сталинского окружения лишь Хрущев был «фигурой уникальной» – «прирожденным интриганом и лицедеем». К концу сталинского правления «напряжение и большая загрузка <…> приобрели более спокойный <…> характер. К тому же Сталин начал стареть. <…> И поэтому даже в ближайшем сталинском окружении с начала 50-х годов начали возникать зародыши интриг, которые развились уже после смерти Сталина» .
Эта версия в какой-то мере опровергается последующим содержанием рассматриваемой книги: далее С. П. Кремлев дает свою версию «Ленинградского дела», и приводимые им факты со всей очевидностью говорят, что мы видим не «зародыши интриг», а ожесточенную борьбу за власть. Названный автор утверждает: «Да, интриги в высшем руководстве в конце 40-х гг. начинались, – но без участия Берии. В то время как он занимался атомными, ракетными и общеэкономическими проблемами, в высшем руководстве формировалась аппаратная интрига…» [2008. С. 588–589, 622– 623] .
По версии С. Т. Кремлева, Л. П. Берия, в силу особой напряженности его работы, единственный из «верхов» был чужд «интригам», из-за чего и был уничтожен вероломными «соратниками» в 1953 г. По этому поводу в предисловии к упомянутым «дневникам» говорится: «Какие тут интриги, шашни, “тайны кремлевского двора” и “кремлевской кухни”. Тут бы до кровати добраться…» [Берия, 2011. С. 30] .
Важнейшей чертой общественно-политической жизни «позднего сталинизма» стало развертывание масштабных идеологических кампаний, нередко перераставших в репрессивные акции. В данном процессе прослеживается определенная динамика: если первые послевоенные годы в этом отношении были относительно «спокойными», то примерно с 1947 г. прослеживается эскалация политических преследований.
Как уже отмечалось в нашей первой статье, по поводу масштабов сталинских репрессий высказывались различные оценки, в том числе в период «перестройки» развернулось своего рода «соревнование» за наиболее высокие цифры. Так, в одной из публикаций тогдашнего «властителя дум» Р. А. Медведева утверждалось, что за 1941– 1946 гг. было репрессировано 10 млн чел. (в это число включались также депортированные народы, бывшие военнопленные, население оккупированных территорий и др.). В свою очередь, в ходе новой волны террора, начавшейся в 1947 г., репрессиям подвергся 1 млн чел. 1
В настоящее время чаще всего фигурируют цифры, опубликованные комиссией Политбюро ЦК КПСС по проблеме массовых репрессий. Согласно ее данным, в 1921–1953 гг. было репрессировано по политическим статьям 3 млн 7 тыс. 788 чел., из которых расстреляно 780 тыс. Что же касается послевоенного периода, то за 1946– 1952 гг. репрессиям подверглось 385 тыс. 720 человек 2
При интерпретации названных сведений следует иметь в виду многообразие репрессий, среди которых прослеживаются три основных направления:
-
1) громкие репрессивные дела, захватывавшие прежде всего представителей номенклатурной и научно-художественной элиты (самые яркие – «Ленинградское дело», процесс Еврейского антифашистского комитета и «дело врачей»);
-
2) массовые репрессивные акции, которые осуществлялись по «политическим статьям», но вряд ли могут в строгом смысле слова оцениваться как политические. Самый яркий пример – аресты после директивы МГБ и Генерального прокурора СССР от 26 октября 1948 г., в соответствии с которой многие репрессированные, отбывшие свои сроки, вновь были осуждены по тем же статьям Уголовного кодекса («повторники»);
-
3) массовое осуждение формально по уголовным статьям, которое однако правомерно расценивать как одну из форм репрессий. Ранее уже приводился самый характерный пример такого рода – осуждение 1,3 млн чел. в соответствии с указом Президиума ВС СССР от 4 июня 1947 г.
Дальнейшего исследования требует вопрос о причинах послевоенной эскалации идеологического прессинга и репрессий. Большинство авторов рассматривают данный феномен как нечто очевидное, вытекающее из самой сущности режима, добавляя к этому влияние личных качеств Сталина – «маниакальной подозрительности» стареющего вождя и т. п.
Лишь в редких случаях указываются определенные объективные основания для репрессивных мер. Крайний вариант такого подхода – версия о правомерности репрессий ввиду наличия реальной опасности, не- обходимости борьбы против внутренних и в особенности внешних врагов («конспирологическая версия»). В качестве одного из последних примеров такой трактовки можно назвать книгу д-ра ист. наук А. Д. Шутова. Автор рассматривает известную «доктрину Даллеса» как конкретный долговременный план уничтожения СССР путем его внутреннего разложения. Он напоминает, что «Доктрина Даллеса» легла в основу директивы Совета национальной безопасности США от 18 августа 1948 г. Как утверждает названный автор, эта политика США «вызвала соответствующую реакцию со стороны сил государственной безопасности СССР, идеологических и пропагандистских органов партии и комсомола. Этим и объясняется, что Соединенным Штатам долго не удавалось выполнить главную задачу своего плана – внедрить в высшие сферы советского руководства человека, который бы способствовал осуществлению программы разрушения СССР» [Шутов, 2008. С. 354– 357].
Иногда фигурирует и такая версия: послевоенные репрессивно-идеологические кампании имели определенные основания, отражали стремление сталинского режима «поставить на место» интеллигенцию, которая в эйфории Победы была охвачена надеждами на либерализацию политической системы, расширение контактов с Западом и т. п.
Не отрицая появления такого рода настроений, думается, нет оснований преувеличивать их массовость и радикализм. В рассматриваемый период ожидание перемен, видимо, не выходило за рамки сложившихся представлений о социальной и политической системе, – речь шла главным образом об устранении ее «отдельных недостатков». Это, вероятно, было связано не только с подавлением всех инакомыслящих и неустанным «промыванием мозгов», но и с тем, что существовавшая система в то время еще не проявила в полной мере своей несостоятельности. Напротив, она выглядела весьма эффективной и динамичной – победила в войне, обеспечила послевоенное восстановление, достигла успехов в военнотехнической области.
В послевоенные годы максимальной остроты борьба против существовавшего режима достигла в повстанческом движении в западных регионах страны и в восстаниях узников ГУЛАГа. В настоящее время из всех явлений такого рода в наибольшей степени исследовано антикоммунистическое движение в Западной Украине и Прибалтике (см.: [Зубкова, 2008; Повседневность террора…, 2009]). При этом следует иметь в виду, что все названные протестные действия носили весьма локальный и специфичный характер и не могли оказывать существенного воздействия на настроения широких масс. Несмотря на наличие в обществе острых противоречий, вплоть до конца сталинского правления существовавший режим, видимо, располагал значительным «запасом прочности», имея возможность сдерживать или подавлять народное недовольство.
Как известно, крупнейшей репрессивной акцией рассматриваемого периода стало так называемое «Ленинградское дело» (на самом деле – целая серия дел). В ходе него, по разным данным, было снято 2–3 тыс. руководящих работников, осуждено порядка 200, казнено 26 чел., из которых самыми крупными фигурами были Н. А. Вознесенский и А. А. Кузнецов.
О причинах «Ленинградского дела» выдвигались различные версии. В эйфории «перестройки» некоторые авторы преподносили Н. А. Вознесенского и А. А. Кузнецова в качестве «героических борцов против сталинизма» (см., например: [Вознесенский, 2004; 2009]). В настоящее время наиболее распространена следующая версия: «ленинградцы» являлись в тот период наиболее перспективными лидерами, которые сформулировали прогрессивную альтернативу развития страны.
В противовес этому ряд историков утверждает, что жертвы «Ленинградского дела» не были какими-то выдающимися деятелями, а их гибель – только результат борьбы в «верхах». Наиболее детальный анализ этих событий дан в книге Ю. Н. Жукова. По его версии, Н. А. Вознесенский представлял собой «карьериста», одержимого непомерным честолюбием. Названный деятель попытался резко поднять свой рейтинг путем дискредитации Молотова, Берии и Маленкова, но проиграл в этой борьбе [Жуков, 2008. С. 420–501].
В настоящее время оценить правомерность какой-то из обозначенных версий весьма затруднительно, поскольку даже элементарная фактическая канва данных событий недостаточно изучена, на что обра- щается внимание в одной из последних публикаций. Ее автор указывает: «В большинстве научных работ, посвященных “Ленинградскому делу”, говорится о более чем 800 ленинградских партийных и советских руководителях, перешедших на работу в другие области. <…> На наш взгляд, однако, количество ленинградских выдвиженцев существенно завышается, а вместе с ними завышается и роль, которую такая группа, если она, конечно, существовала, могла бы сыграть во внутрипартийной политической борьбе» [Болдовский, 2010].
Возвращаясь к вопросу о фундаментальных тенденциях эволюции сталинской системы в послевоенные годы, следует напомнить, что в большинстве публикаций о И. В. Сталине и сталинизме этот исторический феномен рассматривается как некая константа, обладавшая неизменными характеристиками. Лишь некоторые авторы ставят вопрос о его эволюции. Что же касается трансформации сталинской системы в послевоенный период, то в ее трактовке можно проследить три основные версии:
-
1) апогей тоталитаризма;
-
2) «дрейф» режима в сторону либерализации;
-
3) его эволюция в национал-имперском духе.
Чаще всего послевоенный сталинизм характеризуется как апогей тоталитаризма, хотя обычно здесь имеют место броские характеристики без конкретного анализа. Некоторые особенно эмоциональные публицисты, в основном когда речь идет об этнических репрессиях, склонны даже говорить о «фашизации» режима и т. п. Характерно в этом смысле высказывание А. А. Люби-щева – известного биолога, борца против «лысенковщины» и вместе с тем – своеобразного политического мыслителя. В одной из его рукописей, подготовленной в 1956– 1958 гг. и опубликованной лишь недавно, читаем: «Год 1948 – год черной реакции <…> начало настоящей фашизации нашей страны» [2006. С. 417] . Из числа исторических трудов характерным примером подобной трактовки является работа американского советолога У. Лакера [1994. С. 106– 109].
Что касается собственно исторических исследований, то ни одном из них конкретно не рассмотрено, какие реалии свидетельствовали о наивысшем развитии тоталита- ризма на данном этапе. Скорее здесь прослеживаются разнонаправленные тенденции. Скажем, в послевоенные годы «культ Сталина», как феномен пропаганды и массового сознания, действительно достиг апогея (в это время наш вождь воистину «обожествлялся»), однако его реальная власть, как ранее отмечалось, постепенно сужалась. В свою очередь, размах репрессий в эти годы был существенно меньшим в сравнении с 1930-ми гг., но зато максимального развития достигли шовинистические аспекты пропаганды и т. д.
Вторую версию одним из первых декларировал бывший российский историк Л. В. Максименков, работающий в настоящее время в Канаде. По его утверждению, последние годы жизни Сталина ознаменовались началом «подготовки перехода “бронепоезда” режима на послесталинские рельсы». Проявление этой тенденции автор, в частности, усматривал в изменении некоторых акцентов пропаганды, в том числе усилении внимания к «ленинской теме». По мнению названного советолога, «после смерти Сталина советское руководство начало демонтаж отдельных структур сталинизма, исходя из рецептов, оставленных самим Сталиным» [Максименков, 1993. С. 38].
Из числа отечественных историков эту версию поддерживает Ю. В. Емельянов, правда, без развернутого фактического обоснования. В частности, в своей книге о Н. С. Хрущеве он утверждает: «В последние годы своей жизни Сталин сам готовил пересмотр общественно-политической организации страны на основе научно-обоснованных решений [Емельянов, 2005. С. 393].
В другой книге названного автора говорится: «Методы управления, сложившиеся в первые дни после Октябрьской революции и в значительной степени сохранившиеся и в сталинскую эпоху, изживали себя уже в годы правления Сталина. Поэтому жестокие репрессии постепенно затухали, а сам Сталин все чаще осуждал “аракчеевщину”. Его желание обратить внимание на глубокое теоретическое обоснование деятельности партии и разочарование в коллегах-практиках свидетельствовало о том, что он осознавал важность учета объективных законов общественного развития» [Емельянов, 2006. С. 634].
Наиболее же последовательно данная версия проводится в интервью новосибир- ского экономиста Г. И. Ханина под интригующим названием «Сталин – инициатор перестройки?» В качестве доказательства такого рода варианта развития событий приводятся выступления Сталина в ходе дискуссии по языкознанию против «аракчеевщины» в науке, а также поворот к более гибкой позиции в международных делах (перемирие в Корее) и т. п. Самый же главный аргумент – начало кардинального преобразования партаппарата в сторону отказа от непосредственного хозяйственного руководства: в августе 1946 г. в ЦК ВКП(б) ликвидируются все отраслевые отделы экономического характера, остаются только отделы по идеологии и кадрам [2006. С. 17– 18].
С критикой этой позиции выступили Г. В. Костырченко [2006. C. 17–18] и В. О. Пе-чатнов [2006. C. 18–21], однако эти историки, пожалуй, могли бы и не утруждаться, так как аргументация Г. И. Ханина не производит весомого впечатления.
Наконец, в качестве третьей версии высказываются мнения об эволюции сталинского режима в национал-имперском направлении. Следует напомнить, что еще в 1930-е гг. известные представители эмигрантской общественной мысли Н. Н. Устрялов и Н. А. Бердяев делали вывод о трансформации СССР в сторону «национал-большевизма». Сейчас это утверждение стало своего рода «общим местом» у публицистов национал-фундаменталистского толка, в частности, в журнале «Наш современник» и газете «Завтра».
Наиболее последовательно обозначенная версия проводится в книге известного экономиста и публициста О. А. Платонова «Тайная история России» (см.: [Платонов, 1997]). В его изображении, Сталин, развернув борьбу с космополитической элитой, предпринимал огромные усилия для возвращения к «национальным истокам». Репрессивные кампании послевоенных лет, включая известные акции антисемитского характера, при этом рассматриваются как исторически необходимые, а смерть Сталина связывается с «сионистскими происками».
При оценке правомерности всех этих гипотез следует еще раз подчеркнуть, что они носят преимущественно публицистический характер, основаны на различных косвенных доказательствах.
Таким образом, в настоящее время в изучении эволюции сталинской мобилизационной модели достигнуты определенные позитивные результаты. Наиболее заметным достижением отечественных и зарубежных историков следует признать появление ряда ценных документальных публикаций и монографий о «послевоенном сталинизме». В настоящий момент сопоставление процессов его развития с предшествующим периодом является существенной предпосылкой для выявления фундаментальных тенденций эволюции данной системы. Однако сегодня в указанном направлении сделаны лишь первые шаги, при этом наблюдается определенная диспропорция между введением нового фактического материала и его аналитическим осмыслением. В качестве конкретной рекомендации, видимо, было бы полезно провести широкую дискуссию историков и представителей других обществоведческих дисциплин (философов, экономистов, политологов) о сущности сталинской мобилизационной модели и основных этапах ее эволюции.
ТНЕ ЕVOLUTION OF STALIN's MOBILIZATION MODEL: PROBLEMS OF STUDY PAPER 2
Список литературы Эволюция сталинской мобилизационной модели: проблемы изучения. Статья 2
- Авторханов А. Загадки смерти Сталина. Барнаул, 1993. 256 с. Берия Л. П. «Сталин слезам не верит»: Личный дневник 1937-1941. М., 2011. 375 с.
- Болдовский К. А. К вопросу об «экспансии ленинградских кадров» в 1946-1948 гг.//Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 2: История. 2010. Вып. 3. С. 121-126.
- Вознесенский Л. А. Истины ради… М., 2004. 728 с.
- Вознесенский Л. А. Беззаконие… «по закону»: к 60-летию «Ленинградского дела»//Свободная мысль. 2009. № 1. С. 143-158.
- Данилов А. А., Пыжиков А. В. Рождение сверхдержавы: СССР в первые послевоенные годы. М., 2001. 304 с.
- Емельянов Ю. В. Хрущев: смутьян в Кремле. М., 2005. 412 с.
- Емельянов Ю. В. Сталин: на вершине власти. М., 2006. 652 с.
- Жуков Ю. Н. Сталин: тайны власти. М., 2008. 583 с.
- Зубкова Е. Ю. Общество и реформы: 1945-1964. М., 1993. 198 с.
- Зубкова Е. Ю. Послевоенное советское общество: Политика и повседневность. 1945-1953. М., 1999. 230 с.
- Зубкова Е. Ю. Прибалтика и Кремль: 1940-1953. М., 2008. 351 с.
- Костырченко Г. В. Тайная политика Сталина: власть и антисемитизм. М., 2001. 667 с.
- Костырченко Г. В. «Черного кобеля не отмыть добела»//Родина. 2006. № 2. С. 17-18.
- Костырченко Г. В. Сталин против «космополитов»: Власть и еврейская интеллигенция. М., 2010. 415 с.
- Кремлев С. Т. Берия: лучший менеджер XX века. М., 2008. 796 с.
- Лакер У. Черная сотня: происхождение русского фашизма. М., 1994. 431 с.
- Любищев А. А. О монополии Т. Д. Лысенко в биологии. М., 2006. 475 с.
- Максименков Л. В. Культ: заметки о словах-символах в советской политической культуре//Свободная мысль. 1993. № 10. C. 23-44.
- Маленков А. Г. О моем отце Георгии Маленкове. М., 1992. 119 с.
- Мухин Ю. И. За что убит Сталин? М., 2004. 357 с.
- Печатнов В. О. «Бороться с капиталом стало веселее»//Родина. 2006. № 2. С. 18-21.
- Пихоя Р. Г. Москва. Кремль. Власть: сорок лет после войны, 1945-1985. М., 2007. 586 с.
- Повседневность террора: Деятельность националистических формирований в Западных регионах СССР. М., 2009. Кн. 1: Западная Украина. Февраль-июнь 1945 г. 232 с.
- Платонов О. А. Тайная история России. XX век: эпоха Сталина. М., 1997. 468 с.
- Попов Б. С., Оппоков В. Т. Бериевщина (по материалам следствия)//Берия: конец карьеры. М., 1991. С. 333-367.
- Симонов К. М. Глазами человека моего поколения//Знамя. 1988. № 4. С. 78-156.
- Стаднюк И. Ф. Записки сталиниста. М.,1993. 456 с.
- Ханин Г. И. «Сталин -инициатор перестройки?»//Родина. 2006. № 1. С. 18-25.
- Хлевнюк О. В. Хозяин: Сталин и утверждение сталинской диктатуры. М., 2010. 479 с.
- Хлевнюк О. В., Горлицкий Й. Холодный мир: Сталин и завершение сталинской диктатуры. М., 2011. 229 с.
- Шутов А. Д. Россия в жерновах истории. М., 2008. 512 с.
- Conquest R. Power and Policy in the USSR. Scharndorf W. Die Geschichte der KRdSU. N. Y., 1961. 364 p.
- Hosking G. A History of the Soviet Union. L., 1985. 465 p.