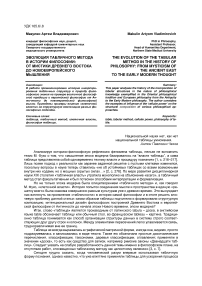Эволюция табличного метода в истории философии: от мистики Древнего Востока до новоевропейского мышления
Автор: Макулин А.В.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 6, 2015 года.
Бесплатный доступ
В работе проанализирована история инкорпорирования табличных структур в природу философского знания на примере восточной философской традиции и европейской философии от Античности до новоевропейской философской мысли. Приведены примеры влияния «клеточной власти» на структурную композицию разных философских подходов.
Таблица, табличный метод, клеточная власть, философия таблицы
Короткий адрес: https://sciup.org/14940673
IDR: 14940673 | УДК: 165.6/.8
Текст научной статьи Эволюция табличного метода в истории философии: от мистики Древнего Востока до новоевропейского мышления
Национальной науки нет, как нет национальной таблицы умножения.
Антон Павлович Чехов
Анализируя историко-философскую рефлексию феномена таблицы, нельзя не вспомнить тезис М. Фуко о том, что «мышление эпохи модерна базировалось на “власти таблицы”, а сама таблица представляла собой одновременно технику власти и процедуру познания» [1, c. 216–217]. Лишь позже подход к реальности как заранее заданной решетке с пустыми клетками изменился, поскольку вопросы в науке теперь ставились «не об устойчивых таблицах со всеми возможными внутри них ходами, но о мощных скрытых силах…» [2, c. 276]. По мере развития дисциплинарной науки XIX столетия «табличная власть» утратила монополию на объяснение «всего», а табличный метод стал факультативным и был потеснен способами интерпретации и формализации.
Но не только эпоха модерна была олицетворением «табличного метода» и, как говорил М. Фуко, «клеточной власти». История попыток соединения мысли и пространства в единую «решетку всего» была знакома совершенно разным культурам уже с древних времен. Это вынуждает нас взглянуть на проявления «табличности» в истории самой философии и в итоге решить ключевую проблему данной статьи: каким образом таблицы подчиняли и формировали структурную композицию, интенциональный дизайн философских построений Древнего Востока и европейской философии от Античности до начала эпохи Нового времени, эпохи модерна?
Итак, слово «таблица» является производным от латинского tabula – доска, в английском языке table обозначает таблицу или обычный стол, во французском tableau – картина. Традиционно таблица понимается как способ организации структуры данных в систему строго соответствующих друг другу строк и колонок. Между элементами пересечений легко улавливается связь, трудноразличимая вне ее границ.
Таблица не всегда выражалась в графической матричной форме, иногда она, видимо, просто подразумевалась и записывалась в виде текста. Также ею обозначали простые дихотомические перечисления, классификации, таксономии, деревья классификации, оглавления; применяли в значении «доска», то есть как средство для записи, например римские законы «Двенадцати таблиц». Следует указать на слабую разработанность данной темы именно в философском плане, на отсутствие работ, «посвященных табличному методу как целостному явлению» [3, c. 7].
Сегодня трудно сказать, когда человеческий разум впервые использовал табличную форму познания, однако известно, что уже египтяне применяли таблицы для ускорения процесса деления в математике. Китайская «Книга перемен» в определенном смысле представляет собой таблицу из конечных комбинаций прерывистых и непрерывных черточек, образующих так называемые гексаграммы, призванные классифицировать свойства всей «тьмы вещей». Древнекитайский медицинский трактат «Су Вэнь» [4, c. 448] также предлагал подобие таблицы, в которой за частями света закреплены времена года, «основные элементы» природы, психологические аффекты, цвета, вкусовые ощущения и т. д. Согласно Э. Кассиреру, вся религиозная «наука» китайцев была ориентирована на эту фундаментальную схему [5, c. 290]. «Буддистская таблица категорий», имевшая древовидную форму, была построена из «четырех возможных реляций двух понятий: в виде утверждения, отрицания, тождества и причинности» [6, c. 244]. Основоположник буддийской средневековой индийской логики Дигнага (ок. 450–520) построил таблицу девяти возможных отношений среднего и большего терминов [7, c. 662].
Особенное значение для Древнего Востока имели магические квадраты и круги с системой вписанных квадратов и треугольников (мандалы), которые по сути представляли собой своеобразные таблицы и являлись символами эзотерических учений. Мандалы иногда совмещали с другими фигурами: колесом сансары, знаками зодиака, цветком лотоса, лабиринтом и др. Примечательно, что в XX в. метафора лотоса стала основой для создания так называемых центробежных таблиц в теории креативного мышления [8, с. 172].
Как на Востоке, так и на Западе уже с античных времен в криптографическом деле использовался метод таблиц (таблиц подстановки).
Даже поверхностный взгляд на историю коэволюции европейской философии и науки показывает, что в применении таблиц не было недостатка: знаменитая таблица Пифагора и «решето Эратосфена» в математике; таблицы Гиппарха и Птолемея в астрономии; таблицы истинности, логический квадрат М. Псела и семантические таблицы Э. Бета в логике; пифагорейская таблица десяти противоположностей, таблицы сущности и присутствия, отклонения и сравнений Ф. Бэкона, таблицы категорий и суждений И. Канта, «сравнительная таблица удовольствий» И. Бентама, «таблица противоположностей» К. Поппера в философии; таблицы Ф. Кенэ в экономике; таблица Менделеева в химии; SWOT-анализ в менеджменте; «Таблица Биона» и «Окно Джохари» в психологии; «Дилемма узника» в теории игр; «Пари Паскаля» в богословии; «Куб Цвики» – метод морфологического анализа и построения полного «поля знаний» о предмете в эвристике; разыскные таблицы в криминалистике и многое другое.
Историю табличного метода в европейской философии, видимо, следует вести с «пифагорейской таблицы десяти противоположностей», которая, как известно, была описана Аристотелем и являлась «плодом более поздней систематизации» [9, с. 176]. Анонимный труд софистов III в. до н. э. «Двойные аргументы» [10, p. 155–167] представлял собой некую таблицу обобщенных аргументов, полезных при доказательстве того или иного утверждения. Горгий создал нечто вроде «таблицы правил этикета» [11, p. 120], где были указаны правильные варианты поведения в обществе в зависимости от ситуации, возраста, пола, социального статуса.
Примечательна для европейской философии Аристотелева «таблица категорий», которая одновременно является неполной и содержит лишние члены, а также «искусственно подогнана под священное пифагорейское число 10» [12]. Также Стагирит классифицировал виды политического устройства по количественно-качественным признакам, что сегодня традиционно выражается в табличной форме. Считается, что Аристотель пользовался во время лекций доской со списком пороков и добродетелей, выстроенных в таблицу [13, с. 704].
Интерес представляет табличная по сути классификация желаний по Эпикуру, часть которой осталась пустой, так как мыслитель не указал желания неестественные и необходимые [14, с. 157]. В Эпикуровском рассуждении о теодицее явно проглядывается матричная структура доказательства невмешательства богов в дела людей. Комбинация вариаций отношения богов к проблеме устранения зла: хочет – не хочет, может – не может, дает четыре вывода.
Также большое значение для Античности имел первый библиотечный каталог греческой литературы – так называемые «Пинак-сы», «Таблицы Каллимаха».
С точки зрения табличной формы представления знаний в средние века интересно творчество Иоанна Скота Эриугены. Его главное сочинение «О разделении природы» знаменито классификацией видов природы и при внимательном рассмотрении представляет собой не что иное как таблицу, образованную пересечением двух дихотомий: творящее – нетворящее, сотворенное – несотворенное.
Особенное значение для Средневековья имели: логический квадрат Михаила Псёла (XI в.); магические квадраты, связанные с поисками математической гармонии в духе теорий пифагорейцев (гравюра А. Дюрера «Меланхолия»); астрологические «таблицы эфемерид» и «таблицы домов», таблица «Откровения седми духов Бога или сил природы» Якоба Бёме [15, с. 175]. Таблицы обладали и нефилософским приложением в виде столов в средневековых счетных конторах, которые были покрыты клетчатой тканью, и таблиц смертности (Флорентийская таблица).
Особняком стоит «логическая машина» Р. Луллия (1235–1315), описанная им в «Великом искусстве» и призванная к тому, чтобы «механически получить все комбинации понятий, соответствующие религиозным истинам» [16, с. 350]. Примечательно, что Луллий применил комбинаторику и к практике «правильного» избрания иерархов Церкви [17, с. 188–196]. Процедура расчета выражалась в табличной форме.
Позже сама идея создания такого «аппарата» привлекла Дж. Бруно, полагавшего, что понятию ума соответствуют иерархии вещей, и, как писал К. Фишер, «потому-то Бруно и заинтересовывается луллиевским искусством» [18, с. 216]. Декарт и Гегель критиковали Луллия за механизацию мышления, а Лейбниц полагал, что «круги Луллия» – «это лишь слабая тень настоящего искусства комбинаторики» [19, с. 207]. Ч. Пирс позже назвал его изобретение абсурдным [20, с. 64]. Х.Л. Борхес в работе «Логическая машина Р. Луллия», признавая нелепость «машины», утверждал, что это не умаляет к ней интереса и даже практического приложения в поэзии. У. Эко дал исчерпывающую характеристику «табличного» метода Луллия: «…луллианский алфавит может говорить о девяти Абсолютных Началах…, благодаря которым Достоинства сообщают друг другу свою природу и распространяются по мирозданию…» [21, с. 64].
В эпоху Реформации лютеранский богослов Маттиас Флациус (1520–1575) говорил о необходимости занесения частей изучаемого объекта «в таблицу… для того, чтобы охватить его единым взглядом» [22, с. 246–247].
Табличный метод нашел применение в творчестве Л. да Винчи, его комбинаторных идеях о «воображаемых животных», «реакциях апостолов на тайной вечере». Из комбинаций известных элементов были получены новые объекты и необычные художественные решения [23, с. 317]. Примечательно, что еще до опытов Л. да Винчи с воображаемыми животными в европейской культуре существовали так называемые средневековые бестиарии, содержавшие образы фантастических животных, полученных, видимо, путем псевдослучайного комбинирования их частей.
Из краткого экскурса в историко-философскую рефлексию таблицы ясно, что данный феномен сыграл не последнюю, но еще не доминирующую роль в становлении структуры и методологии разных философских взглядов как мыслителей Востока, так и европейских исследователей начиная с Античности и заканчивая эпохой Возрождения. Восточная религиозно-философская традиция с присущей ей метамифологичностью использовала таблицы бессистемно, наугад, совмещая часто несовместимые вещи и получая иногда странные, но небезынтересные выводы. В развитии европейской философии интерес к таблицам часто диктовался конкретными нуждами логического исчерпывания вариантов решения проблемы, комбинаторного анализа метафизических и теологических вопросов, что не мешало порой облачать таблицы в мистические и астрологические «одеяния». По сути истинный интерес к таблице как способу организации интеллектуального пространства проснулся лишь в философии Нового времени.
Ссылки:
-
1. Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. СПб., 1994. 406 с.
-
2. Там же. С. 276.
-
3. Антонова О.А. Современные проблемы использования табличных методов в логике : дис.... д-ра филос. наук. СПб., 2005. 346 c.
-
4. Су Вэнь, Нэй Цзин. Священные Книги Древнего Востока. Кемерово, 1994. 448 c.
-
5. Кассирер Э. Избранное: Индивид и космос. М. ; СПб., 2000. 654 c.
-
6. Щербатской Ф.И. Теория познания и логика по учению позднейших буддистов. Ч. II. СПб., 1995. 395 c.
-
7. Канаева H.A. Дигнага // Новая философская энциклопедия : в 4 т. Т. I. М., 2010. 662 с.
-
8. Микалко М. Игры для разума. Тренинг креативного мышления. СПб., 2007. 447 с.
-
9. Жмудь Л.Я. Пифагор и его школа. Л., 1990. 188 с.
-
10. Sprague Kent Rosamond. Dissoi Logoi or Dialexeis // Mind, New Series. 1968. Vol. 77, № 306 (April). P. 155–167.
-
11. Brumbaugh R.S. The philosophers of Greece. Albany, 1981. 276 p.
-
12. Маковельский А.О. История логики [Электронный ресурс]. М., 2004. URL: http://www.logic-books.info/sites/de-
fault/files/makovelskiy_a.o._istoriya_logiki.pdf (дата обращения: 10.06.2014).
-
13. Аристотель. Сочинения : в 4 т. Т. 4. М., 1983. 830 с.
-
14. Ивлев Ю.В. Логика для юристов : учебник. М., 1996. 304 с.
-
15. Булгаков С.Н. Свет невечерний: созерцания и умозрения. М., 1994. 415 с.
-
16. Жильсон Э. Философия в средние века: от истоков патристики до конца ХIV века. 2-е изд. М., 2010. 678 с.
-
17. Вольский В.И. О вкладе Раймунда Луллия в теорию голосования // Полития: Анализ. Хроника. Прогноз. 2011. № 1.
-
18. Фишер К. История «новой» философии: введение в историю «новой» философии. Фрэнсис Бэкон Верлуамский. М., 2003. 541 с.
-
19. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Кн. 2: Средневековье (от Библейского послания до Макиавелли). СПб., 1997. 354 с.
-
20. Там же. С. 64.
-
21. Эко У. Поиски совершенного языка в европейской культуре. СПб., 2007. 423 с.
-
22. Шпет Г.Г. Герменевтика и ее проблемы // Контекст-1989. М., 1990. С. 231–267.
-
23. Дилтс Р. Стратегии гениев. Т. 3: Зигмунд Фрейд, Леонардо да Винчи, Никола Тесла. М., 1998. 378 с.
С. 188–196.
Список литературы Эволюция табличного метода в истории философии: от мистики Древнего Востока до новоевропейского мышления
- Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. СПб., 1994. 406 с.
- Антонова О.А. Современные проблемы использования табличных методов в логике: дис.. д-ра филос. наук. СПб., 2005. 346 с.
- Су Вэнь, Нэй Цзин. Священные Книги Древнего Востока. Кемерово, 1994. 448 с.
- Кассирер Э. Избранное: Индивид и космос. М.; СПб., 2000. 654 с.
- Щербатской Ф.И. Теория познания и логика по учению позднейших буддистов. Ч. II. СПб., 1995. 395 с.
- Канаева H.A. Дигнага//Новая философская энциклопедия: в 4 т. Т. I. М., 2010. 662 с.
- Микалко М. Игры для разума. Тренинг креативного мышления. СПб., 2007. 447 с.
- Жмудь Л.Я. Пифагор и его школа. Л., 1990. 188 с.
- Sprague Kent Rosamond. Dissoi Logoi or Dialexeis//Mind, New Series. 1968. Vol. 77, № 306 (April). P. 155-167.
- Brumbaugh R.S. The philosophers of Greece. Albany, 1981. 276 p.
- Маковельский А.О. История логики . М., 2004. URL: http://www.logic-books.info/sites/de-fault/files/makovelskiy_a.o._istoriya_logiki.pdf (дата обращения: 10.06.2014).
- Аристотель. Сочинения: в 4 т. Т. 4. М., 1983. 830 с.
- Ивлев Ю.В. Логика для юристов: учебник. М., 1996. 304 с.
- Булгаков С.Н. Свет невечерний: созерцания и умозрения. М., 1994. 415 с.
- Жильсон Э. Философия в средние века: от истоков патристики до конца XIV века. 2-е изд. М., 2010. 678 с.
- Вольский В.И. О вкладе Раймунда Луллия в теорию голосования//Полития: Анализ. Хроника. Прогноз. 2011. № 1. С. 188-196.
- Фишер К. История «новой» философии: введение в историю «новой» философии. Фрэнсис Бэкон Верлуамский. М., 2003. 541 с.
- Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Кн. 2: Средневековье (от Библейского послания до Макиавелли). СПб., 1997. 354 с.
- Эко У. Поиски совершенного языка в европейской культуре. СПб., 2007. 423 с.
- Шпет Г.Г. Герменевтика и ее проблемы//Контекст-1989. М., 1990. С. 231-267.
- Дилтс Р. Стратегии гениев. Т. 3: Зигмунд Фрейд, Леонардо да Винчи, Никола Тесла. М., 1998. 378 с.