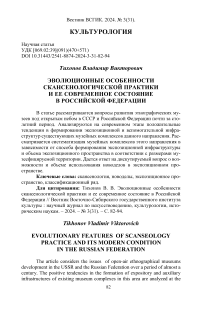Эволюционные особенности скансенологической практики и ее современное состояние в Российской Федерации
Автор: Тихонов В.В.
Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного института культуры @vestnikvsgik
Рубрика: Культурология
Статья в выпуске: 3 (31), 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются вопросы развития этнографических музеев под открытым небом в СССР и Российской Федерации почти за столетний период. Анализируются на современном этапе положительные тенденции в формировании экспозиционной и вспомогательной инфраструктур существующих музейных комплексов данного направления. Рассматривается систематизация музейных комплексов этого направления в зависимости от способа формирования экспозиционной инфраструктуры и объема экспозиционного пространства в соответствии с размерами музеефицируемой территории. Дается ответ на дискутируемый вопрос о возможности и объеме использования новоделов в экспозиционном пространстве.
Скансенология, новоделы, экспозиционное пространство, классификационный ряд
Короткий адрес: https://sciup.org/170207561
IDR: 170207561 | УДК: [069.02:39](091)(470+571) | DOI: 10.31443/2541-8874-2024-3-31-82-94
Текст научной статьи Эволюционные особенности скансенологической практики и ее современное состояние в Российской Федерации
За более чем столетнее существование скансенологическая практика в своем эволюционном развитии претерпела в плане экспозиционного строительства кардинальные изменения, особенно это касается СССР и Российской Федерации.
Зародившаяся в 1891 г. в Швеции [1, с. 7] скансенология своей первоначальной задачей ставила сохранение каким-либо образом, чаще в музейной форме под открытым небом, уникальных или исторических на то время архитектурных объектов в деревянном исполнении, имеющих достаточно большой срок существования. Формирование экспозиционного пространства осуществлялось посредством показа отдельного объекта в существующей исторической среде или на новом месте в отрыве от исторической среды, а также, и чаще всего, посредством набора архитектурных объектов на специально отведенных под музейную среду территориях или музеефика-ции отдельных площадей населенных пунктов, имеющих в перспективе историческое и, конечно, туристическое значение.
К концу ХХ в. в соответствии с вышеотмеченным подходом постепенно сложился классификационный ряд этнографических музеев под открытым небом в зависимости от способа формирования экспозиционного пространства. Он включает в себя следующие группы:
-
1. Этнографические музейные комплексы под открытым небом резервационного построения, то есть, те, формирование экспозиционного пространства которых производилось за счет объектов-оригиналов и новоделов на историческом месте их существования. Примером такого комплекса в Российской Федерации можно считать музей в пос. Шушенском, в котором основная часть объектов осталась на историческом месте, а утраченные были заменены привезенными аналогами. Образцом сохранения исторической застройки во внемузейном пространстве стал 130-й квартал в г. Иркутск, открытый в 2011 г., в котором отреставрировали и аутентично воссоздали 68 исторических зданий деревянного зодчества. Иркутский пример теперь пытаются повторить другие города России с поквартальной деревянной застройкой (Красноярск, Томск, Вологда), но в более скромных масштабах.
-
2. Музейные комплексы с транслокационным типом формирования экспозиционного пространства за счет перевозки 83
-
3. Этнопарки – этнографические комплексы под открытым небом, создаваемые на научной основе и использующие аутентичные копии ранее существовавших деревянных строений. В нашей стране таких комплексов, выполненных по классической музейной схеме, пока нет. А то, что создается и порой называется музеями, далеко от музейной науки, подобные примеры можно назвать одним словом – шоу!
памятников деревянного зодчества как уникальных, так и не стоящих на учете в органах охраны культурного наследия, на новое место (музей). Таким способом создавались практически все наши существующие этнографические музеи под открытым небом России.
Учитывая то, что практически все этнографические музеи под открытым небом России выполнены по схеме транслокации, в данной статье попытаемся хронологически и классификационно представить именно это направление. Первым этапом формирования экспозиционного пространства таких музеев был коллекционный. Уникальные объекты, которые требовали сохранения для истории, свозились в музейное пространство и размещались по отдельности, без соответствующей исторической среды, в эффектный видовой ряд. Яркими примерами этому являются этнографические музеи в Коломенском, Суздале, Нижней Си-нячихе, Нижнем Новгороде и т. д.
Второй этап формирования экспозиционного пространства этнографических музеев под открытым небом, к которому российская скансенология подошла в последней четверти ХХ в., стал этнографический. Его смысловая значимость состоит в том, что основной подход изменился от коллекционного собирания и показа отдельных объектов в экспозиционном пространстве, перейдя к моделированию в аутентичном варианте исторической среды музеефи-цируемой территории по этно-географо-экономико-хозяйственному принципу с использованием научного подхода – историко-культурного зонирования, определяющего этномаркирующие составляющие (резкоотличительные элементы). За счет этого подхода появилась возможность для аутентичного воссоздания исторической среды в экспозиционном пространстве, используя ее как в фрагментарном показе, так и в полноценном переносе в музейную среду отдельных комплексов в деревянном исполнении, например, деревни-мало- дворки, состоящей из трех крестьянских усадеб XVIII-XIX вв. в Архитектурно-этнографическом музее под открытым небом «Тальцы» (г. Иркутск) [2, с. 34].
Для этнографических музеев под открытым небом транслокационного типа, как и для следующей группы музеев – «этнопарков» (новоделов) – специалисты современной скансенологии вводят также классификационный ряд в зависимости от масштаба музеефицируе-мой территории: общегосудар ственные, субрегиональные, региональные, муниципальные и локальные (усадебные) [3, с. 18]. На 84
рубеже XX-XXI вв. в результате воздействия времени и хозяйственной деятельности человека из исторической среды практически полностью, за редкими исключениями, выбыли памятники деревянного зодчества дореволюционной России, а оставшиеся были отнесены законодательством к уникальному историко-культурному наследию страны, которое запрещено переносить с мест их исторического существования на иные территории. Слава богу, что это не коснулось иного – средового деревянного зодчества, которое также использовалось и используется му-зейщиками-скансенологами в экспозиционном строительстве. К сожалению, дискуссия о правомочности использования новоделов при аутентичной реконструкции исторической среды в музейном пространстве продолжается среди специалистов-музеологов до нашего времени, хотя решение дилеммы оказалось несложным. Было предложено в создаваемом музейном пространстве необходимые памятники деревянного зодчества как утраченные, так и находящиеся под государственной охраной, выполнять в виде «точной копии», а также применять этот метод по отношению к образцам средового деревянного зодчества, многие образцы которого также во многом исчезли из исторической среды. Таким образом, использование аутентичных новоделов позволило ввести в экспозиционное строительство этнографических музеев под открытым небом третью группу музеев по способу их создания – «этнопарков», музеев с полной новодельной экспозицией. При этом ранее существующее ортодоксальное мнение о том, что в экспозиционном строительстве этнографических музеев под открытым небом можно использовать только подлинные объекты, разбивается об элементарное философское рассуждение: дерево имеет средний срок эксплуатации 100 лет. Иногда больше, иногда меньше. Через определенный временной отрезок – 200, 300, 500, 1000 лет – весь материал экспозиционных объектов станет новоделом, как в музеях-резерватах, так и в музеях под открытым небом транслокационного типа, в которых экспозиционные объекты выполнены в деревянном исполнении. Переход от коллекционного подхода к этнографическому в создании экспозиционной инфраструктуры главной задачей ставит спасение не уникальных объектов деревянного зодчества, а сохранение или аутентичное воссоздание исторической среды, являющейся фундаментом для обеспечения культурной безопасности любой страны. Задача эта не только обоснованна, но в будущем должна стать основой перспективного сохранения исторической памяти в каждом регионе, в каждом городе и в каждой деревне. При значительном разрастании скансенологиче-ского направления в музеологии на экспозиционное пространство всех вновь создающихся музеев артефактов, однозначно, не хватит!
Современное формирование экспозиционного пространства 85
этнографических музеев под открытым небом в зависимости от масштаба музеефицируемой территории в Российской Федерации имеет свою специфику. Так, этнографического музейного комплекса с общегосударственным охватом в России до настоящего времени нет! А в других странах – Швеции, Норвегии, Румынии и т.д. – есть. В принципе, этому есть простое объяснение. Вышеперечисленные страны по территории и этническому разнообразию значительно уступают Российской Федерации. Тем не менее, такой тип музея в России создать вполне возможно.
Обычно подобные музейные комплексы создаются на окраинах, реже в центре столиц. Для Российской Федерации такой музейный комплекс по экспозиционному масштабу территории будет огромным. В свое время автор статьи предлагал мэру г. Москва Ю.М. Лужкову организовать такой музей в Коломенском в пойме Москвы-реки на основе укрупненного историко-культурного зонирования страны по территориям – Центрально-Европейская, Северо-Европейская, Поволжье, Урал, Северный Кавказ, Сибирь [4, с. 63]. Этот проект не был принят, прошел коллекционный вариант. При этом для создания новой экспозиции в пойме реки использовали объекты из созданного в Коломенском П.Д. Барановским в 1927 г. первого в Советском Союзе этнографического музейного комплекса: угловую башню Братского острога 1648 г. и надвратную проезжую башню Николо-Корельского монастыря 1692 г. Таким образом был разрушен первый в Советском Союзе музей деревянного зодчества, ставший историей. В новую экспозицию добавили, уже в новоделе, башню Сумского острога 1680 г., церковь Святого великомученика Георгия Победоносца 1685 г., водяную мельницу и три, опять же новодельные, усадьбы в улицу, непонятно для чего! В результате получился совсем не впечатляющий (и это видно невооруженным взглядом) новодельный винегрет. Думаю, при основательном подходе к сохранению исторической памяти в наше время общегосударственный этнографический комплекс в виде этнопарка еще предстоит создать.
Во вторую группу по масштабу музеефицируемой территории входят субрегиональные этнографические музейные комплексы, которых в стране три: это опять же музей деревянного зодчества «Коломенское», в котором на сегодня существуют две разрозненные экспозиции. Первая в пойме реки, уже описанная нами, и вторая в виде остатка от ранее существовавшего музея деревянного зодчества, созданного П.Д. Барановским. Последняя состоит из домика Петра Первого 1702 г. из Архангельска и медоварки XVIII в. из подмосковного с. Преображенского. Обе экспозиции сформированы за счет своза и аутентичного воссоздания объектов из четырех субъектов РФ. Вторым этнографическим музеем под открытым небом в этой группе можно назвать Этнографический 86
музей народов Забайкалья в районе Верхняя Березовка г. Улан-Удэ. В нем экспонаты собраны из двух регионов: Республики Бурятия и Иркутской области. Третьим музеем в этой группе стал Музей истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока СО РАН в г. Новосибирск. Его экспозиция представлена двумя башнями Ишимского острога из Тюменской области и Зашиверской церковью с колокольней из Республики Якутия. Это музейное направление (коллекционного типа) при существующем в стране законодательстве по охране историко-культурных объектов совершенно неперспективно, в том числе и в плане этнопарков. Относительно последних – этнопарков – неперспективность можно объяснить элементарной логикой: каким руководителям интересно в своих регионах воссоздавать деревянное зодчество соседних, ведь во всех регионах и своего деревянного зодчества хватает, дай бог хотя бы его сохранить.
Третью группу этнографических музейных комплексов под открытым небом составляет региональный тип. Пока по Российской Федерации среди музеев этнографического направления под открытым небом их не меньше половины. В названии группы – региональные – обозначается территория и объемы музеефикации. Первоначально в этой группе в плане формирования экспозиционного пространства господствовало коллекционное направление, с конца ХХ в. появилось этнографическое. Наиболее ярким представителем последней группы музеев является Архитектурно-этнографический музей под открытым небом «Тальцы» (г. Иркутск). Экспозиционное пространство этого музейного комплекса, как и Архангельского государственного музея деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы», первоначально формировалось на основе укрупненного историко-культурного зонирования музеефици-руемой территории. В дальнейшем в Иркутской области, на единственной территории РФ, в конце 1990-х – начале 2000-х гг., было проведено уже детальное историко-культурное зонирование, в результате которого охвачено практически все историко-культурное пространство музеефици-руемой территории и выделено десять соответствующих им экспозиционных зон. На современном этапе существования музейного комплекса «Тальцы», думаю, интересно рассмотреть основные моменты его развития в хронологическом порядке:
1966 г. – 9 января, вышло постановление Иркутского облисполкома о создании музея народного деревянного зодчества [5, с. 32].
1971 г. – архитектором Г.Г. Оранской предложена схема первых экспозиционных зон музея [5, с. 33].
1972 г. – начинается строительство первого объекта музея «Усадьбы Непомилуева» [6, с. 215].
1980 г. – 18 июля, открытие первой экспозиции музея
«Деревни-малодворки», состоящей из трех усадеб.
1994 г. – 1 января, музей «Тальцы» выделяется из состава краеведческого музея и становится самостоятельным учреждением областного подчинения – Архитектурно-этнографическим музеем под открытым небом «Тальцы».
1995 г. – указом Президента РФ № 176 от 20.02.1995 г. Архитектурно-этнографический музей «Тальцы» включен в перечень объектов историко-культурного наследия народов федерального (общероссийского) значения [7, с. 28-30].
1999 г. – Координационный Совет по культуре Межрегиональной ассоциации «Сибирское Соглашение» 24 июля 1999 г. за № 9 утвердил «Положение о научнометодическом центре Сибири и Дальнего Востока по проблемам музеев под открытым небом архитектурно-этнографического профиля на базе Архитектурно-этнографического музея «Тальцы» (г. Иркутск) [8, с. 80-82].
2004 г. – выполнено детальное историко-культурное зонирование Иркутской области с определением соответствующих экспозиционных зон музея [9, с. 50-96].
2006 г. – утверждена программа «Основные направления развития Архитектурно-этнографического музея «Тальцы» [10, с. 216].
2012 г. – утвержден генеральный план строительства ИОГАУК АЭМ «Тальцы».
Четвертую группу музеев по масштабу территории составляют муниципальные этнографические музеи под открытым небом. Для построения их современного экспозиционного пространства также применим метод историко-культурного зонирования, которое проводится уже на территории муниципалитета. Образцом такого этнографического комплекса можно считать музей «Ангарская деревня» (г. Братск). Историко-культурное зонирование на территории Братского района позволило выделить три историко-культурные зоны: русскую старожильческую, эвенкийскую и западно-бурятскую. Экспозиции, представляющие первые две зоны, уже существуют в виде русской старожильческой деревни, состоящей из шести усадеб в одностороннюю улицу лицом на реку (Ангару) и иных построек: церкви Михаила Архангела с колокольней, кузницы начала ХХ в., водяной мельницы и главного музейного объекта – башни Братского острога XVII в. [11, с. 37]. В настоящее время на стадии завершения находится аутентичное воссоздание инфраструктуры Братского острога с присутствием в его экспозиции объекта-оригинала – юго-западной острожной башни 1654 г. постройки. Эвенкийская экспозиция состоит из зимнего и летнего стойбищ и культового комплекса из шаманского чума и захоронений [12, с. 33]. В отношении западно-бурятской экспозиции работы пока не ведутся.
Приведенными выше примерами этнографические музейные комплексы под открытым небом в Иркутской области не 88
исчерпываются, поскольку кроме них существуют еще муниципальные комплексы в поселках Усть-Орда и Баяндай, а также локальные (усадебные) в поселках Вершина и Пихтинск. О двух последних речь пойдет ниже, а пока хочется отметить, что в настоящее время в скан-сенологической практике Российской Федерации Иркутская область является презентативной территорией: из 30 классических этнографических комплексов под открытым небом страны в Иркутской области находится шесть.
Пятую группу этнографических музеев под открытым небом в зависимости от масштаба музеефи-цируемой территории составляют локальные (усадебные) музейные комплексы. Их отличие от мемориальных музейных усадебных комплексов заключается в главной доминанте: мемориальность или эт-нографичность основного объекта с соответствующим наполнением внутриобъемных экспозиций и сообразным экскурсионным содержанием. Отличительные особенности могут быть как резко выраженными, так и незначительными, как в случае музейного комплекса семьи Степановых в станице Тимо-шевской (Краснодарский край), который можно рассматривать и как мемориальный комплекс, и как этнографический музей под открытым небом с мемориальной составляющей. Практика создания локальных (усадебных) музейных комплексов началась также, как и с музеем Скансен, в Швеции в середине ХХ в. Сельское население уезжало в города, в деревнях и селах оставались заброшенные дома (усадьбы), инициативные группы на волонтерских началах превращали их в память о прошлом в общественные музеи этнографического профиля, свозя и снося туда всю старинную, уже не нужную (в условиях современной цивилизации) утварь. Эти волонтерские этнографические музейные усадьбы работают круглосуточно и круглогодично. Вход в них свободный, персонала как такового нет. Зашел, посмотрел, опустил денежку в копилку, закрыл за собой двери и калитку. Говоря о распространенности музеев этого направления, достаточно привести в пример Швецию, в которой на рубеже ХХ-XXI вв., по данным Е. Чайковского, из 1 162 этнографических музейных комплексов под открытым небом страны 96 % были локальные (усадебные) [13, с. 13]. Скансенологическая практика Российской Федерации, несмотря на наличие пока еще значительного количества артефактов, позволяющих развивать это направление, значительно отстала от мирового сообщества. Из порядка 30 этнографических музейных комплексов под открытым небом в стране на современном этапе локальных (усадебных) этнографических музеев под открытым небом только два: «Усадьба польского переселенца периода столыпинской аграрной реформы Зелинского» в пос. Вершина Иркутской области [14] и «Усадьба голендра Гимборга – переселенца периода столыпинской аграрной реформы» в пос. Пихтинск Иркутской области [15].
Оба музея построены на волонтерской основе автором статьи. По нашему мнению, именно это направление в скансенологии, в том числе российской, выглядит наиболее перспективным и может стать самым массовым музейным явлением в стране наравне с разворачивающимся ныне краеведческим движением.
Скансенологическая практика Российской Федерации за долгие годы претерпела в своем развитии значительные изменения и определила основные тренды для построения современного экспозиционного пространства, которое заключается в максимальном отражении смысловой нагрузки, моделируемой в музее в результате детального историко-культурного зонирования музеефицируемой территории. При этом этномаркирующие объекты, размещенные в музейной экспозиции в своей основе, ни по архитектуре, ни по смысловому содержанию, не должны повторяться, т. е. допускать аналоги в других экспозициях. Макроэкспозиции конкретной историко-культурной зоны должны быть отделены от экспозиций других историко-культурных зон пространством или зелеными насаждениями, исключающими образование в музее единой площади без деления на отдельные темы.
По маршруту туристического потока в музее должно быть устроено соответствующее времени пространство, без современных, резко отличающихся объектов, таких как административные здания, фондохранилище, пожарное депо и др.
Указатели, надписи, осветительные приборы, необходимые для обслуживания турпотока, должны быть стилизованы и вписаны в историческую среду прошлого. То же самое касается и торговли, включая ассортимент сувенирной продукции. Часть объемов помещений музея допускается использовать для проведения мастер-классов, в том числе ремесленного направления. Дорожная сеть должна максимально соответствовать тому времени, которое отражается в экспозициях. В музее «Тальцы» этот вариант давно отработан. Первоначально строится дренаж в виде наклонных канав глубиной 0,8-1 м, заполненных речным крупнозернистым гравием. Далее площадь покрывается слоем гравия средней крупности, толщиной 10 см, а затем крупным щебнем на 5 см и отсевом на 5 см. Все последовательно укатывается, желательно, крупным катком.
Въездная зона также формируется по принципу исключения из нее объектов, не связанных с экскурсионным обслуживанием, и их повторения в основной экспозиционной инфраструктуре [16]. Парковочные площадки рассчитываются на максимальный объем турпотока в период массовых мероприятий, с расчетом на этот же поток кассового здания. Сегодня подход к виду кассового здания музея позволяет использовать современные архитектурные формы. Принцип кассового зала с современными архитектурными формами работает по следующей схеме. Приехавший в музей посетитель при покупке 90
билета и прохождении контроля находится в привычной для него обстановке, а выходя из здания, контрастно попадает в другую историческую среду. Аналогия с человеком, засыпающим в современной обстановке, а во сне попадающим в прошлые времена. Вдруг сон прерывается на интересном месте и остается чувство неудовлетворенности от недосмотренного. Остается одно – опять прийти в музей! Кабельные сети так же, как и их разводка по экспозиционным объектам, должна производиться максимально незаметно. Для исключения проблем при расширении экспозиционного пространства музея необходимо заранее позаботиться о достаточности землеотвода, позволяющего не допустить видимость иных, не связанных с музеем объектов.
Сложившаяся в последние годы скансенологическая практика при ее правильном применении позволяет этнографическим музеям под открытым небом беспроблемно функционировать как в плане финансовой деятельности, так и привлекательности для посетителей подобных музейных комплексов.
Список литературы Эволюционные особенности скансенологической практики и ее современное состояние в Российской Федерации
- Тихонов В. В., Нефедьева А. К. Основные направления развития Архитектурно-этнографического музея «Тальцы». Иркутск: Репроцентр А1, 2006. 216 с.
- Тихонов В. В. Усадьба Непомилуева из деревни Гарманка // Тальцы. 2004. № 1 (20). С. 34-41.
- Тихонов В. В. Методические рекомендации по формированию и развитию этнографических музеев под открытым небом. Иркутск: Репроцентр А1, 2013. 80 с.
- Тихонов В. В. К вопросу о создании в Коломенском историко-этнографического музея России // Тальцы. 1999. № 2 (6). С. 51-56.
- Тихонов В. В. Анализ методической базы музеев под открытым небом. Иркутск: ИП Макаров С. Е., 2003. 180 с.
- Тихонов В. В. Хронология развития музея «Тальцы» // Архитектор и время. Иркутск: Репроцентр А1, 2013. С. 274.
- Об утверждении Перечня объектов исторического и культурного наследия народов федерального (общероссийского) значения: указ Президента Российской Федерации // Тальцы. 1996. № 1. С. 28-30.
- Положение о Научно-методическом центре Сибири и Дальнего Востока по проблемам музеев под открытым небом архитектурно-этнографического профиля на базе архитектурно-этнографического музея «Тальцы» (г. Иркутск) // Тальцы. 2001. № 1 (12). С. 80-82.
- Тихонов В. В. Особенности музеефикации архитектурно-этнографических комплексов Предбайкалья: дис. … канд. культурологии: 24.00.03 / КемГАКИ. Кемерово, 2004. 197 с.
- Тихонов В. В., Нефедьева А. К. Основные направления развития Архитектурно-этнографического музея «Тальцы»: программа. Иркутск: Репроцентр А1, 2006. С. 216.
- Шевгенина Л. А., Семенов В. М. Ангарская деревня // Тальцы. 1997. № 1 (2). С. 33-39.
- Павлов А. А. Экспозиция эвенкийского сектора музея «Ангарская деревня» // Тальцы. 1998. № 1 (3). С. 33-38.
- Чайковский Е. Музеям под открытым небом – 100 лет // На пути к музею 21 века: музеи-заповедники. М., 1991. С. 10-26.
- Тихонов В. В. Этнографический музей «Усадьба польского переселенца периода столыпинской аграрной реформы Зелинского». Иркутск: Репроцентр А1, 2013. 19 с.
- Тихонов В. В. Этнографический музей «Усадьба голендра Гимборга – переселенца периода столыпинской аграрной реформы». Иркутск: Репроцентр А1, 2013. 32 с.
- Тихонов В. В. Вопросы формирования въездной зоны Архитектурно-этнографического музея «Тальцы» // Археология Южной Сибири. Новосибирск: РПО СО РАСХН, 2003. С. 143-145