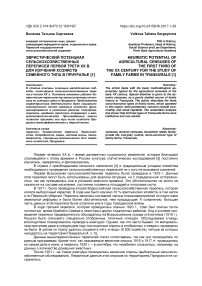Эвристический потенциал сельскохозяйственных переписей первой трети ХХ в. для изучения хозяйств семейного типа в Приуралье
Автор: Волкова Татьяна Сергеевна
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Статья в выпуске: 1, 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье описаны основные методические подходы, отличавшие сельскохозяйственные переписи начала ХХ в. Основное внимание уделено динамическим переписям как малоизученному источнику по истории семьи в Приуралье. Представлена характеристика деятельности трех социально-экономических типов семейных хозяйств, функционировавших в указанном регионе: полупролетарского, среднего (простого товарного) и мелкокапиталистического. Произведенный анализ позволил признать все три типа хозяйств Приуралья малоэффективными и нерыночными.
Переписи, динамические переписи, домохозяйство, потребности, семья, частная жизнь, повседневность, социально-экономический тип семейного хозяйства, приуралье
Короткий адрес: https://sciup.org/14941065
IDR: 14941065 | УДК: 930.2:314.6(470.5)“190/193”
Текст научной статьи Эвристический потенциал сельскохозяйственных переписей первой трети ХХ в. для изучения хозяйств семейного типа в Приуралье
Первая четверть ХХ в. – время динамичных социальных изменений, которые благодаря сложившейся к этому времени в России культуре статистических исследований [2] постоянно изучались, замерялись и фиксировались.
В стране с преобладанием сельского населения [3] и традиционным укладом хозяйства необходимость проведения сельскохозяйственных переписей ни у кого не вызывала сомнений.
Первая Всесоюзная сельскохозяйственная перепись была проведена в 1916 г. Данные этой переписи могут быть использованы для анализа ситуации, но с определенной осторожностью, так как проводилась она в условиях военного времени. Это обстоятельство не могло не сказаться на составе населения, состоянии посевных площадей и поголовье скота.
В 1917 г. была проведена вторая Всероссийская сельскохозяйственная перепись, которая носила выборочный характер. В ходе нее было изучено 10 % крестьянских хозяйств, в том числе и по Пермской губернии. Перепись являлась составной частью плана мероприятий по подготовке земельной реформы и была более обстоятельной, чем предыдущая. К сожалению, большая часть данных этой переписи была утрачена уже в годы Гражданской войны.
В ходе третьей переписи, которая проводилась осенью 1920 г., Урал был описан почти полностью, кроме Крайнего Севера и некоторых других отдаленных районов. Ход и условия проведения переписи предварительно обсуждались на Всероссийском съезде статистиков (1919 г.). Решено было описывать специально отобранные, типичные «гнезда». Обследование «гнезд» впоследствии планировалось проводить ежегодно. Однако, как это часто бывает, по материальным причинам даже в следующем году полноценные опросы в отобранных «гнездах» проведены не были. В целом по Уралу удалось сохранить пять «гнезд» (6 500 хозяйств), четыре из которых находилось на территории Приуралья [4, с. 5].
Данные вышеперечисленных переписей плохо сопоставимы, так как они проводились по разным программам. Кроме того, так называемые весенние опросы 1916 и 1917 гг. проводились на самом деле в июне, а перепись 1920 г. – в сентябре, что неизбежно отразилось, например, на данных о количестве домашних животных.
После 1921 г. на Урале ежегодно проводились весенние опросы (выборочные сельскохозяйственные обследования). Первичные данные этих опросов по территориям Приуралья не сохранились.
В 1924 г. в связи с районированием Уральской области Уральское статистическое управление провело специальное обследование – сплошной опрос всех крестьянских хозяйств области, известный под наименованием единых списков 1924 г. [5].
В 1925 г. Центральное статистическое управление (ЦСУ) приступило к формированию новой сети для статистического обследования крестьянских хозяйств в РСФСР. Эта сеть должна была стать базой для отслеживания динамики изменений в крестьянских хозяйствах, главным образом единоличных (семейного типа).
На Урале, в том числе и на территории Приуралья, решено было выделить 24 «гнезда» (из них 3 «старых», дореволюционных). Предполагалось опрашивать 29 тыс. хозяйств, или 2,5 % по отношению к общей массе крестьянских хозяйств Урала [6].
С октября 1925 г. по инициативе Уральского областного статистического управления на средства, ассигнованные Уралпланом, была организована корреспондентская сеть – 800 человек [7, с. 75]. Для этого оказалось достаточно публикации в местной крестьянской газете. В качестве бонуса корреспонденты получали подписку на эту газету [8].
Созданная респондентская сеть выглядела весьма представительно. Из 205 районов Уральской области вне обследования оставались только 16. В Приуралье это были два удаленных и, соответственно, труднодоступных северных района – Ныробский и Косинский [9, с. 75].
Корреспондентская сеть активно сотрудничала с органами статистики около 6 месяцев (в период с октября 1925 г. по июнь 1926 г.). Затем активность несколько понизилась [10], так как началась уборка урожая.
Информанты должны были представить данные за 12 месяцев. Полностью справилась с заданием треть участников (34 %).
Максимальную активность в Приуралье проявили две группы корреспондентов: те, чьи посевы составляли от 2 до 4 дес. земли, и те, кто владел земельным участком от 4,01 до 6 дес. [11].
Вместе с тем в полученных Уральским областным статистическим управлением материалах были представлены все типы хозяйств, существовавших тогда в регионе, что позволяет воссоздать весь модельный ряд домохозяйств.
В дальнейшем методика обследований крестьянских хозяйств на Урале постоянно совершенствовалась. Прежде всего увеличивался процент выборки (за 1924–1926 гг. от 5 до 10 %). Постепенно осуществлялся переход от случайного выбора изучаемых хозяйств, который производился регистраторами, к механическому отбору, выполняемому до начала опросов в центрах окружных статистических бюро.
Конечно, в сложившейся к середине 1920-х гг. системе и методике проведения переписей и опросов имелись определенные изъяны, которые, однако, тщательно исследовались и описывались при публикации полученных данных. К примеру, в сопроводительных материалах к опубликованным данным по опросам 1924 и 1925 гг. указано, что в Верхнекамском округе опрос проводился только на территориях, близких к райцентру, а в труднодоступных в весеннее время местах вообще не проводился. В 1926 г. в Чердынском районе также опрашивали селения, расположенные близко к районному центру. В Косинском районе были зафиксированы отступления от методов механической статистики. В подворных опросах регистрация данных велась по памяти, что также неизбежно приводило к ошибкам. В 1927 г. в Пермском округе крестьянские хозяйства поселений заводского типа не изучались, тогда как в Кунгурском они оказались включены в перепись.
В 1927 г. ЦСУ приступило к генеральному пересмотру динамической сети для проведения переписей крестьянских хозяйств. Охват крестьянских хозяйств был доведен до 3 %. По Уралу в выборку вошло 35,3 тыс. хозяйств. Важно отметить, что только три из них изучались непрерывно с 1920 г.
Наиболее информационно насыщенными для исследования крестьянских хозяйств семейного типа в Приуралье можно считать динамические переписи 1925 и 1926 гг. Их итоги были обобщены и опубликованы [12].
В сводных таблицах изданных материалов представлены сведения по округам за период 1920–1926 гг. Это абсолютные цифры по размерам посевов, рабочему скоту и, что особенно интересно, данные относительно динамических изменений (разделов/объединений), происходивших в этот период с обследованными хозяйствами [13, с. 122–123].
По Березовскому гнезду (Верхнекамский округ), Кудымкорскому (Коми-Пермяцкий округ), Березовскому и Манчажскому (Кунгурский округ) за период 1920–1926 гг. можно проследить процент хозяйств, нанимавших рабочую силу и инвентарь, сдававших инвентарь, пользовавшихся кредитованием. Досконально описана рабочая сила, в том числе наемная. По этим же гнездам можно проследить обеспеченность хозяйств рабочим и крупным рогатым скотом и сравнить эти показатели с данными 1916 г. [14, с. 56–59].
Наибольший интерес представляют сводные таблицы по бюджетам отдельных крестьянских хозяйств [15, с. 18–49].
В этих материалах представлены данные о числе работников и едоков (в переводе на взрослых мужчин) в каждом из обследованных хозяйств. Полученные сведения дают возможность восстановить процесс землепользования в 1925/1926 бюджетном году, а также размер пашни, пара, залежи (в том числе косимой и некосимой).
По опубликованным данным можно оценить уровень развития арендных отношений в хозяйствах, в частности сопоставить размер оплаты арендованной земли и орудий труда деньгами, натурой и отработками.
Весьма детально в опубликованных материалах представлена материальная база крестьянских хозяйств. В частности, приведены фактические данные о постройках (жилых, сельскохозяйственных, промысловых) и приросте/убыли их стоимости за год. Имеются сведения об инвентаре (сельскохозяйственном, промысловом) и его стоимости, численности скота, его стоимости и приросте/убытке (на конец года).
Немалый интерес представляют данные о расстоянии (в верстах) от того или иного крестьянского хозяйства до города, ближайшей железнодорожной станции, главного рынка сбыта сельскохозяйственной продукции и приобретения изделий промышленного производства. Они позволяют точнее оценить реальные возможности рыночной трансформации конкретных хозяйств.
В сведениях о доходной части бюджета, кроме основных, сельскохозяйственных источников, учитывались доходы от лично-промысловых занятий, продажи рабочей силы, службы на заводах.
Приток денежных средств в крестьянские хозяйства не был равномерным. Максимум достигался в первых кварталах, когда реализовывалось более одной трети всей товарной сельскохозяйственной продукции. Основной же объем средств поступал от иных занятий: лесоводства, охоты, рыболовства, то есть неземледельческих заработков в зимние месяцы [16, с. 85].
В расходной части бюджетов, кроме общей суммы и объема всех покупок, учитывались данные о долгах, налогах, кредитных сделках (натурой и деньгами), оплате услуг. Судя по квартальным данным, основные расходы в крестьянских хозяйствах делались в первом квартале года, что было связано с платежами налогов и необходимостью покрытия денежных задолженностей.
При первичной обработке материалов сельскохозяйственных динамических переписей 1925 и 1926 гг. работниками органов статистического учета была предпринята попытка рассмотреть полученные данные с точки зрения классового подхода – классифицировать хозяйства не только по экономическим, но и по социальным признакам.
Социально-экономические типы хозяйств определялись следующим образом: полупролетарское (с основными средствами производства в 200 р.), среднее или простое товарное (700– 800 р.), мелкокапиталистическое (1 000 р.). Благодаря данным переписей эти социальные стандарты сегодня можно описать более обстоятельно и конкретно.
В качестве полупролетарского земледельческого можно рассматривать вошедшее в перепись хозяйство из села Карги Манчажского района Кунгурского округа [17]. Это хозяйство принадлежало семье, состоящей из 4 человек. Из них по условиям переписи 2,2 считались работниками и 2,65 – едоками (в пересчете на взрослых мужчин).
Хозяйство состояло из усадьбы в 72 кв. саженей и 0,08 кв. саженей приусадебной земли. Удобными для земледелия признавались государством 5,27 кв. саженей. Сами сеяли рожь, лен, картофель, травы. Обработка пашни, огорода, сенокоса дохода не приносила. Например, за счет огородничества они сумели заработать 6 р., а текущие затраты на возделывание огорода составили 5 р. За продажу молока семья получила 53,73 р. при затратах в 59 р. 14 к.
Половину принадлежавшей им земли (2,84 кв. саженей) сдавали в аренду. Налоги эта семья не платила.
Жили в основном за счет продажи своей рабочей силы. За 117 дней работы по найму им заплатили в 1925 г. 116,75 р. Дополнительно семья получила 40,5 р. за 30 дней поденной работы.
Денег на ремонт помещений и покупку новых средств производства в данном хозяйстве не было. Основная часть заработанных средств (129,88 р.) уходила на покупку продуктов питания, в том числе и промышленной переработки. Основными статьями расхода этой семьи оказались затраты на отопление (34,55 р.), освещение (3,96 р.), одежду (31,35 р.), обувь (26,70 р.).
В качестве примера простого товарного хозяйства по критериям переписи 1925 г. можно рассматривать одно из хозяйств Пермского округа (Верхнегородковского района из Верхнечусовских городков). В пересчете на взрослых мужчин это семейное хозяйство состояло из 2,6 работников и 3,78 едоков. Обрабатывалось 1,13 кв. саженей усадебного, 0,15 кв. саженей приусадебного участка. Хозяйство было многопрофильным. Занимались огородничеством, садоводством, скотоводством, птицеводством, свиноводством и выращиванием картофеля.
В целом оно работало без серьезных потерь. Так, картофеля за год продали на 8,82 р. при затратах в 2,94 р. 80 пудов сена дали прибавку к бюджету 20,80 р. при затратах в 1,25 р. От огородничества прибыль составила 3,04 р., садоводства – 2,96 р. На продажу шло также мясо, молоко, молочные продукты. Этот небольшой, но постоянный доход позволил семье компенсировать потери в птицеводстве и скотоводстве.
Однако доходы от сельского хозяйства не позволяли делать долгосрочные вложения в материальную базу этого семейного хозяйства. Например, строительство жилья и сельскохозяйственных построек на сумму в 1 000 р. осуществлялось главным образом за счет продажи своей рабочей силы, доходов от лесного хозяйства и ремесленно-кустарного производства.
Основными статьями расхода этой семьи оказались затраты на питание (326,48 р.), отопление, освещение, одежду, обувь и алкоголь.
Из сельскохозяйственных продуктов эта семья покупала: зерно, овес, грубые корма, ржаную и пшеничную муку. Очевидно, что налог в 16 к. не был для данного хозяйства обременительным. За оказанные сторонние услуги члены семьи предпочитали расплачиваться продуктами.
В качестве мелкокапиталистического, по терминологии, употреблявшейся в 20-х гг. ХХ в., может быть представлено хозяйство из села Сосновка Березовского района Кунгурского округа.
Семья из пяти человек (2,2 работников и 2,95 едоков) имела 144,1 кв. саженей земли, из которых 16,56 кв. саженей ими обрабатывалось самостоятельно. Половина обрабатываемой земли была отведена под пашню. Сеяли рожь, пшеницу, овес и картофель. Годовой доход от полеводства составил 302 р. 90 к.
Сопоставимой статьей дохода для этой семьи были подработки, не связанные с сельскохозяйственной деятельностью (312 р.). Занятие скотоводством приносило убытки, птицеводством и рыболовством – незначительную прибыль.
Общий объем затрат и структура расходов на личное потребление в этом хозяйстве существенно не отличается от структуры расходов в других типах хозяйств. Единственное, что обращает на себя внимание, это бо̀ льшие (в пять раз по отношению к первому типу и в три раза по отношению ко второму типу хозяйств) траты на табак и алкоголь. Налоги, в отличие от других типов хозяйств, для бюджета этой семьи были заметны. Размер налога был сопоставим с двухнедельным доходом семьи.
Итак, судя по представленным примерам, все типы крестьянских хозяйств Приуралья к середине 20-х гг. XX в. можно характеризовать как малоэффективные и нерыночные.
Из-за недостатка сельскохозяйственных орудий труда активнее других сдавали землю в аренду хозяйства первого типа. Таким образом, арендные отношения нельзя назвать специфическим признаком так называемых мелкокапиталистических хозяйств. Использование наемного труда также нельзя считать особым признаком мелкотоварных хозяйств в Приуралье. Кредитование не было сколько-нибудь заметным подспорьем в решении хозяйственных проблем. Основной доход все типы хозяйств получали от неземледельческих промыслов, в первую очередь от работы в лесном хозяйстве.
Методика динамических сельскохозяйственных переписей предполагала ежегодный сбор сведений по одной и той же программе, в одних и тех же селениях и дворах. Создатели методики намеревались учитывать выселения, разделы, соединения, новые вселения и ликвидации хозяйств. Такой подход позволил бы аргументированно отделить стабильные хозяйства от нестабильных и изучать их раздельно. К сожалению, этот поистине новаторский подход не был реализован.
Ссылки и примечания:
-
1. Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ – РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта «Частная жизнь населения Приуралья в 20–30 гг. ХХ века: источники, историография, исследовательские методики». Грант № 16-11-59006 а(р).
-
2. См.: Эссе по истории российской статистики. Хронология [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/con- nect/rosstat_main/rosstat/ru/about/history/de354a804bdd96568fa2bfc25c10f730 (дата обращения: 12.01.2017).
-
3. По данным Всеобщей переписи населения Российской империи (1897 г.), 77 % жителей было отнесено к социальной группе «крестьяне», 87 % населения проживало в сельской местности. См.: Первая Всероссийская перепись населения прошла ровно 105 лет назад [Электронный ресурс]. URL: http://demoscope.ru/weekly/2002/053/perepis06.php (дата обращения: 12.01.2017).
-
4. Итоги динамических сельскохозяйственных переписей на Урале за два года (1925 и 1926). Вып. 1. Свердловск, 1927.
-
5. Там же. С. 5.
-
6. Там же.
-
7. Воробьев А.В. Записи денежного прихода-расхода крестьянского хозяйства как материал для наблюдения за конъюнктурой сельского хозяйства // Сборник статей по статистике Урала. Свердловск, 1927.
-
8. Подписка на «Красную газету» стоила 3 р. в год.
-
9. Воробьев А.В. Указ. соч. С. 75.
-
10. До 779 человек. Следовательно, потери составили 2,6 % от первоначальной выборки.
-
11. В совокупности 65 % ответов. Подсчитано по: Воробьев А.В. Указ. соч. С. 75.
-
12. Итоги динамических сельскохозяйственных переписей …
-
13. Там же. С. 122–123.
-
14. Там же. С. 56–59.
-
15. Там же. С. 18–49.
-
16. Сборник статей по статистике Урала. Свердловск, 1927. С. 85–87.
-
17. Здесь и далее подсчитано по: Итоги динамических сельскохозяйственных переписей …
Список литературы Эвристический потенциал сельскохозяйственных переписей первой трети ХХ в. для изучения хозяйств семейного типа в Приуралье
- Эссе по истории российской статистики. Хронология . URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/about/history/de354a804bdd96568fa2bfc25c10f730 (дата обращения: 12.01.2017).
- Первая Всероссийская перепись населения прошла ровно 105 лет назад . URL: http://demoscope.ru/weekly/2002/053/perepis06.php (дата обращения: 12.01.2017).
- Итоги динамических сельскохозяйственных переписей на Урале за два года (1925 и 1926). Вып. 1. Свердловск, 1927.
- Воробьев А.В. Записи денежного прихода-расхода крестьянского хозяйства как материал для наблюдения за конъюнктурой сельского хозяйства//Сборник статей по статистике Урала. Свердловск, 1927.
- Сборник статей по статистике Урала. Свердловск, 1927. С. 85-87.