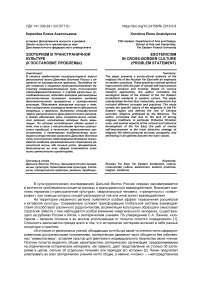Эзотеризм в трансграничной культуре (к постановке проблемы)
Автор: Королва Елена Анатольевна
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Культура
Статья в выпуске: 6, 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье представлен социокультурный анализ религиозной жизни Дальнего Востока России с акцентом на эзотерические практики. Последние через покаяние и смирение противопоставляют духовному совершенствованию путь психического самосовершенствования. С учетом различных исследовательских подходов автором рассмотрены аксиологические основания интереса жителей дальневосточного приграничья к эзотерической культуре. Обоснована авторская позиция о том, что исторически эзотеризм включал в себя разные концепции и практики. Выявлены специфические черты религиозности Дальневосточного региона, а также обозначена роль синкретических китайских религий, носителями которых были маньчжуры. По итогам исследования сделан вывод о том, что в связи с отсутствием прочных религиозных традиций, в частности православного христианства, и некоторыми особенностями культурно-исторического развития Дальнего Востока путь психического самосовершенствования оказывается наиболее привлекательной стратегией религиозной жизни, где личный успех, процветание, благополучие во всех сферах становятся главными ценностными ориентирами.
Дальний восток России, дальневосточное приграничье, культура, трансграничная культура, эзотеризм, эзотерические практики, религия, традиции
Короткий адрес: https://sciup.org/149133998
IDR: 149133998 | УДК: 141.339:291.337(571.6) | DOI: 10.24158/fik.2019.6.8
Текст научной статьи Эзотеризм в трансграничной культуре (к постановке проблемы)
В культурологических исследованиях Дальний Восток России нередко рассматривается в контексте проблематики концепта границы и трансграничного взаимодействия. Возникает комплекс терминов («трансграничная культура», «маргинальный человек», «транзитность» «лимитрофа»), при помощи которых концептуализируется той или иной аспект взаимодействия.
На территории указанного региона появляется особый эффект пересечения российской и китайской культуры. Современные условия трансформации глобальной системы взаимодействия способствуют различного рода контактам, ассимиляции культурных образцов и смысловых стратегий. Вместе с тем наблюдается особое внимание «маргинального человека», существующего на рубежах России и Китая, к эзотерическим учениям. По утверждению С.А. Панина, «эзотеризм – явление сложное и во многом ускользающее от попыток строгого определения» [1]. Сложность заключается прежде всего в том, что исторически эзотеризм включал в себя разные концепции и практики.
«В отличие от религиозных учений, обладающих хотя бы до какой-то степени четко сформулированными доктринальными положениями, эзотерические движения часто обходятся без собственных “символов веры”, оставляя простор для фантазии и индивидуального творчества своих членов. Поэтому попытки выделить общие характеристики эзотерических организаций, предпринимаемые на ограниченном историческом материале, как правило, дают представление не столько об эзотеризме в целом, сколько об отдельных течениях или периодах его истории» [2]. Панин предлагает усматривать во всех эзотерических учениях нечто общее, а именно «гнозис» – «непосредственное духовное озарение, имеющее метафизический или космологический характер» [3]. Следует учитывать, что гнозис возможно постичь только при помощи определенных духовных практик.
На наш взгляд, условия трансграничной культуры (от лат. trans, trans-border – 'простирающийся через пространство' или cross, cross-border – 'скрещенный, гибридизированный') становятся благоприятной средой для этнорелигиозного ваимодействия. С XV в. заметное культурное влияние на население Приамурья начинает оказывать Китай [4]. Несмотря на миссионерскую деятельность Русской православной церкви, начиная с XVII в. маньчжуры и китайцы, оказавшиеся на территории России, сохраняли верность своим религиозным традициям. Часто крещение носило лишь формальный характер – большинство китайцев руководствовались не религиозными соображениями, а практическими выгодами [5, c. 139]. В настоящее время комплекс политических и экономических причин (среди них – изменение идеологии, процессы глобализации и плотность контактов) привел к увеличению количества россиян, интересующихся культурой Китая, его религиозными учениями и практиками. Кроме того, граждане КНР чаще приезжают в нашу страну с разными целями и одновременно привносят национальные обычаи, традиции, религиозные представления.
Так, сегодня на Дальнем Востоке России очень распространена китайская система саморазвития и оздоровления, некая внутренняя алхимия цигун – работа с Ци. Отечественный востоковед Е.А. Торчинов подробно анализирует эту даосскую практику [6]. Рассматривая философский и мировоззренческий смысловой уровень категории Ци , исследователь отмечает значимую особенность китайской мысли – отсутствие полярности, противопоставления материального и идеального: «Материя и дух единосущны и взаимосводимы, здесь нет места для трансцендентного мира вечных идей или дуализма духа и вещества, духа и плоти» [7]. Важно также подчеркнуть, что аналога веры в загробную жизнь в даосизме не было: после смерти душа рассеивается в природе. В связи с данной философской установкой наличие телесности оказывается принципиальным условием жизни. Это означает, что продление жизни и долголетие относятся к главным ценностям в китайской культуре [8]. На наш взгляд, этот аспект чрезвычайно важен для осмысления картины религиозной жизни в современной культуре Дальнего Востока России.
Заметим, что ни одно из религиозных течений не может претендовать на абсолютное духовное лидерство. Духовность все более персональная, внутренняя, когда Бога ищут внутри себя, в глубинах собственного сознания, когда каждый выбирает верования, которые ему по душе. Получает распространение утверждение: «Я сам создаю себе истину. Моей является истина, которую я для себя признаю». Истина эта строится из множества элементов, взятых из различных мировоззренческих систем [9, c. 42]. Эзотерические практики духовному совершенствованию через покаяние и смирение противопоставляют путь психического самосовершенствования. На первый план выходят культивирование любви к себе, эгоизм, идея личного успеха, процветание, благополучие, физическое и духовное удовольствие и наслаждение [10, с. 52]. Такому набору ценностей соответствует и функционал предлагаемого эзотерического материала: исцеление, оздоровление, обретение счастья, гармонии. Ввиду этого целесообразно рассмотреть, в каких социокультурных условиях формировался тип человека приграничной территории, в частности дальневосточного приграничья, чтобы отчетливее представить картину культурных реалий нашего времени.
Структурным оформлением духовного плана человека Дальневосточного региона, начиная с XVII в. (с начала утверждения Русской православной церкви среди народов Амура), согласно политической стратегии, было православное христианство. Приведем некоторые исторические данные.
«На церковном соборе, состоявшемся в 1681 г. под председательством патриарха Иоакима, принято решение направить в Даурию (Забайкалье) регулярную миссию для распространения православия среди местного населения. Формирование и отправка миссии поручены Тобольскому митрополиту Павлу, так как с открытием в 1620 г. Тобольской епархии все вновь присоединенные к России территории попадали под ее управление. …В том же 1681 году миссия, в состав которой вошли двенадцать монахов во главе с игуменом Темникова-Сретенского монастыря Феодосием, отправлена в Забайкалье. Как отмечали церковные историки, члены первой официальной православной миссии в Восточной Сибири “действовали со всей ревностью”....В конце XVIII – начале XIX в. предпринимаются первые попытки христианизации народов Нижнего Амура. В январе 1855 г. архиепископ Иннокентий получает из Синода официальное предписание принять под свое управление территорию Приамурского края и разрешение “сподоблять Святым крещением желающих сего туземцев”. Через год указом Синода от 20 февраля 1856 г. на Амуре учреждаются два миссионерских стана. Миссионерам поручено вести проповедь среди нанайцев, нивхов, негидальцев и самагиров, населявших район Нижнего Амура» [11, c. 115].
В начале XX в. последователи христианских конфессий составляли в среднем более 80 % от общего числа жителей региона. Однако специфические черты религиозность Дальневосточного региона обрела благодаря присутствию синкретических китайских религий, носителями которых были маньчжуры, практиковавшие религиозные обряды с элементами анимизма, тотемизма, фетишизма, магии и шаманизма. Так, пограничная территория всегда давала «другую» точку отсчета, иной наблюдательный пункт, возможность сопоставления и сравнения. Маргинальный человек способен увидеть то, что скрыто в атавистическом режиме существования [12], т. е. способен воспринять иную стратегию смысла, отличную от той, которая формируется христианским дискурсом.
С.М. Дударенок, размышляя над вопросом о том, почему в Дальневосточном регионе массовое распространение получили «нетрадиционные» религии, приходит к выводу, что это связано с полиэтническим составом людей, которые изначально обживали соответствующую территорию. На наш взгляд, важное значение имело принуждение к кардинальной смене картины религиозного мира. Приведем исторические факты, опираясь на работу М.Б. Сердюк: «Уже после первой волны крестьянской колонизации (1861–1882) в Амурской области, по официальным данным, проживали представители десяти конфессий (православные, старообрядцы, молокане, духоборы, прыгуны, субботники, католики, протестанты, иудеи, мусульмане). Православный священник А.П. Сизой отмечал в 1857 г., что переселенцы-казаки, считавшиеся в официальных документах пpaвocлaвными, не имели “ясного понятия о православной религии и ее обрядах... в их числе были даже последователи ламаизма”. В 1857–1858 гг. он крестил 14 казаков-буддистов» [13, c. 54]. Удивление вызывают следующие цифры: с 1864 по 1916 г. на Дальнем Востоке России по обрядам Русской православной церкви крещено 38 140 «язычников» [14, c. 47]. Тем самым искусственно прививалась картина религиозного мира, которая для местного населения была чужда и принципиально отличалась от привычной жизни, наполненной обрядами и ритуалами. Формировались иное отношение к сакральному, иной способ познания религиозного мира – через «прокламацию» (передачу религиозного слова и смысла). Данный режим наиболее характерен для западного монотеизма – иудаизма, христианства, ислама, т. е. трех религий Книги, вытесняющих на задний план опыт явленного сакрального. В этом режиме [15, c. 66]:
-
1) священное переживается как слово ;
-
2) священное толкуется как имя ;
-
3) в религиозной жизни рассказывается история;
-
4) жизнь основана на разработке культуры , разрывающей природные связи;
-
5) логика смысла оперирует соответствиями.
Итак, язычники становятся христианами, порой даже насильственно. В свою очередь, такой религиозный синкретизм по духу гораздо ближе к анимистическим верованиям местных народов, чем христианство. Можно предположить, что он несколько уравновешивал радикальность смены картины религиозного мира. Даже к началу XXI в. на Дальнем Востоке России не возникло прочных религиозных традиций. Л.Е. Бляхер пишет о современной культуре трансграничья в контексте проблематики самоидентификации. Он приходит к выводу о том, что конфессиональный маркер «православие» служил маркером культурной идентичности, т. е. с помощью религии решалась главная проблема «проточной» культуры – отсутствие внутренней идентичности [16, c. 117]. При этом Бляхер обращает внимание на связь религии и властного дискурса: «Люди… знают “правильный ответ” и воспроизводят его в ходе опросов. При этом к их реальности ответ имеет достаточно косвенное отношение. “Несовпадения”… скорее объясняются не кризисом рациональности и распространением суеверий, но тем, что “правильный ответ” пока выучен плохо. Он слишком недавно стал “правильным”» [17, с. 132].
Таким образом, даже самоидентификация не отражает реальной картины духовной жизни. Полагаем, складывается противоречивая ситуация: человек, считающий себя православным христианином, по целому ряду признаков не может быть отнесен к какой-либо конфессии. На фоне отсутствия прочных религиозных традиций и проблемы самоидентификации эзотерические практики оказываются одним из таких ресурсов, который способствует самоопределению личности, формированию ценностей и смыслов.
Ссылки и примечания:
Список литературы Эзотеризм в трансграничной культуре (к постановке проблемы)
- Панин С.А. Эзотеризм и его место в западной культуре // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2015. № 4 (54), ч. 1. С. 127-132
- Аниховский С.Э. Этнорелигиозные отношения на Дальнем Востоке России во второй половине XIX - начале XX в.: на материалах взаимодействия православия с религиозными верованиями китайского населения: дис. … канд. филос. наук. М., 2004. 168 с
- Аниховский С.Э. Этнорелигиозные отношения на Дальнем Востоке России во второй половине XIX - начале XX в.: на материалах взаимодействия православия с религиозными верованиями китайского населения: дис. … канд. филос. наук. М., 2004. 168 с. С. 139.
- Торчинов Е.А. Даосизм. Дао-Дэ цзин. СПб., 2004. 252 с
- Торчинов Е.А. Путь золота и киновари. Даосские практики в исследованиях и переводах. СПб., 2017. 472 с
- Erdogan E., Erdogan H.A. Feng Shui Paradigm as Philosophy of Sustainable Design [Электронный ресурс] // International Journal of Nuclear and Quantum Engineering. 2014. Vol. 8, no. 10. P. 3336-3341. URL: https://waset.org/publications/9999817/fengshui-paradigm-as-philosophy-of-sustainable-design (дата обращения: 15.04.2019)
- Четверикова О.Н. Религия и политика в современной Европе. М., 2005. 176 с
- Четверикова О.Н. Религия и политика в современной Европе. М., 2005. С. 52.
- Аниховский С.Э. Этнорелигиозные отношения на Дальнем Востоке России во второй половине XIX - начале XX в.: на материалах взаимодействия православия с религиозными верованиями китайского населения: дис. … канд. филос. наук. М., 2004. С. 115.
- Сердюк М.Б. Религиозная жизнь Дальнего Востока (1858-1917): дис. … канд. ист. наук. Владивосток, 1998. 209 с
- Аниховский С.Э. Этнорелигиозные отношения на Дальнем Востоке России во второй половине XIX - начале XX в.: на материалах взаимодействия православия с религиозными верованиями китайского населения: дис. … канд. филос. наук. М., 2004. С. 47.
- Зенкин С.Н. Небожественное сакральное. Теория и художественная практика. М., 2014. 536 с
- Бляхер Л.Е. Региональная самоидентификация и трансграничные практики на Дальнем Востоке России // Пространственная экономика. 2005. № 1. С. 117-132.
- DOI: 10.14530/se.2005.1.117-132