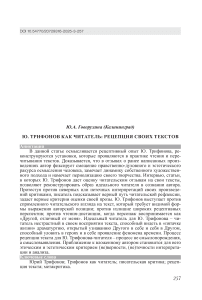Ю. Трифонов как читатель: рецепция своих текстов
Автор: Ю.А. Говорухина
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература и литература народов России
Статья в выпуске: 3 (74), 2025 года.
Бесплатный доступ
В данной статье осмысливается рецептивный опыт Ю. Трифонова, реконструируются установки, которые проявляются в практике чтения и перечитывания текстов. Доказывается, что в отзывах о ранее написанных произведениях автор фиксирует смещение нравственно-духовного и эстетического ракурса осмысления человека, замечает динамику собственного художественного подхода и намечает периодизацию своего творчества. Интервью, статьи, в которых Ю. Трифонов дает оценку читательским отзывам на свои тексты, позволяют реконструировать образ идеального читателя в сознании автора. Протестуя против неверных или неточных интерпретаций своих произведений критиками, писатель подсказывает верный путь читательской рефлексии, задает верные критерии оценки своей прозы. Ю. Трифонов выступает против спрямленного читательского взгляда на текст, который требует видимой формы выражения авторской позиции; против излишне широких рецептивных перспектив; против чтения-дистанции, когда персонаж воспринимается как «Другой, отличный от меня». Идеальный читатель для Ю. Трифонова – ч итатель нестрастный в своем восприятии текста, способный видеть в «пятачке жизни» драматургию, открытый узнаванию Другого в себе и себя в Другом, способный уловить в героях и в себе проявление феномена времени. Процесс рецепции текста для Ю. Трифонова-читателя – процесс не смыслопорождения, а смысловыявления. Пр иближение к вложенному автором становится для него этическим и эстетическим критерием (не)верности, (не)точности интерпретации и анализа.
Юрий Трифонов, Трифонов как читатель, писательская критика, рецепция текста, метакритика
Короткий адрес: https://sciup.org/149149395
IDR: 149149395 | DOI: 10.54770/20729316-2025-3-257
Текст научной статьи Ю. Трифонов как читатель: рецепция своих текстов
Yuri Trifonov; Trifonov as a reader; writer’s critics; text reception; metacritics.
2025 год – юбилейный для Ю. Трифонова. Столетие со дня рождения побуждает подвести промежуточные итоги исследования творчества писателя, увидеть лакуны, перечитать произведения автора и очередной раз убедиться в их актуальности, соВРЕМенности и уМЕСТности для читателя XXI в. В исследованиях Т.Л. Рыбальченко, И.И. Плехановой, В.А. Суханова, Н.Б. Ивановой, Е.А. Добренко, H.Л. Лейдермана и М.Н. Липовецкого, А.П. Шитова и В.Д. Поликарпова и многих других исследуются разные аспекты проблематики, поэтики произведений Ю. Трифонова, осмысливается движение эстетической и философской мысли писателя. Его публицистические тексты привлекаются учеными как ценные метатекстовые суждения. Мы имеем представление о Трифонове-писателе, но каким был Трифонов-читатель? Данная статья – попытка частично заполнить существующую лакуну. Ее главная цель – осмыслить рецептивный опыт Ю. Трифонова, через анализ конкретных читательских рефлексий выйти к эстетико-мировоззренческим установкам писателя, к «первичной герменевтической / рецептивной структуре» (по аналогии с понятием Ю.М. Лотмана «первичная моделирующая структура») – тем установкам, которые проявляются в практике рецепции текстов и определяют ход интерпретации. Первая статья посвящена Трифонову как читателю своих текстов, чужих отзывов на свои тексты, как автору, представляющему идеального читателя своих произведений. Главный герой второй статьи – Трифонов как читатель чужих текстов (рецензент, автор небольших предисловий к журнальным и книжным публикациям).
Заметим, что обращение к теме «писатель как читатель» сопряжено со сложной проблемой идентификации субъекта высказывания. Чей голос мы слышим, например, в статье «Нечаев, Верховенский и другие…»? Трифоно-ва-рефлексирующего читателя «Бесов»? Или Трифонова-писателя, увлеченного темой терроризма, прошлого и настоящего? И если это неразделимое целое, есть ли смысл в заявленной теме? Эти вопросы требуют методологического самоопределения.
Писатель читает и оценивает чужие тексты с разной степенью осознаваемой авторефлексии, сквозь призму собственной эстетической перспективы. Разделить роли читателя и писателя в данном случае невозможно. Различительным моментом для нас послужит факт созидания художественного целого. В статьях, рецензиях, интервью Трифонов-творец уступает место Трифонову-аналитику, занимающему метапозицию по отношению своему и чужому тексту. Говоря о прошлом этапе творчества, Трифонов, по сути, оказывается в роли мысленно перечитывающего свои тексты. Таким образом, осознавая невозможность (и ненужность) точной субъектной идентификации, будем исходить из роли в тексто(смысло)порождении. Трифонов-читатель как объект нашего внимания – это Трифонов, занимающий позицию не смысловложения, а смыслоизвлечения, порождения не художественного текста, а аналитического.
Писатель нередко критичен к своим первым литературным опытам. А.П. Чехов в письме Л.А. Авиловой восклицал, увидев присланные ему рукописи ранних рассказов: «…о, ужас, что это за дребедень!» [Чехов 1980, 149], А. Ахматова называла первые произведения «бедными стихами пустейшей девочки» [Ахматова 2001, 176], А. Твардовский признавался в автобиографии: «Писал я тогда очень плохо, беспомощно, ученически, подражательно» [Твардовский 1959, 414]. Ю. Трифонов в интервью с А. Бочаровым не менее критичен к «Студентам»: «…я бы переписал эту книгу заново от первой и до последней страницы» [Трифонов 1985а, 147], называет повесть недостоверной [Трифонов 1985а, 342; Откровенный разговор… 1981, 11], признается, что в книгу вошел весь опыт его «еще недлинной жизни, впечатления и встречи с людьми, без осмысления, без с в о е г о (разрядка автора – Ю.Г .)», «многое блестело от лака» [Трифонов 1985а, 131]. В письме аспирантке Э. Алескеровой он советует: «В первой главе, где говорится о “Студентах”, следует отчетливей оценить идейный конфликт – Белов-Козельский – с сегодняшних позиций. Все-таки тут – главная слабость книги» (цит. по: [Шитов 1997, 500]). В то же время наряду с оценкой «Я просто не могу сегодня ни одной страницы этого романа прочитать» [Трифонов 1985а, 239] автор добавляет: «Отказываться от своих книг нельзя. Но можно удаляться от них. Иногда – очень далеко [Трифонов 1985а, 240]; «Первые свои книги не могу читать. Как будто писал другой человек. Нет, не отказываюсь от них – я был таким, я так чувствовал, так понимал» [Трифонов 1985b, 235]. В этих репликах, очевидно, мы видим в качестве субъекта писателя, находящегося в позиции читателя собственного текста, но с изменившейся оптикой художественного исследования человека и бытия, иной техникой письма. Кроме того, уже в этих фразах присутствует этический момент («не отказываюсь») – важная составляющая «ключа» Трифонова-читателя. В отзывах-репликах писателя о «Студентах» и других ранее написанных произведениях дистанция, процесс удаления и, как следствие, смещение нравственно-духовного и эстетического ракурса осмысления человека становятся очевидными, проговариваются писателем.
Возвращаясь к написанным произведениям, Ю. Трифонов замечает изменение собственного художественного подхода и намечает периодизацию своего творчества. Первый период – «Студенты», затем второй – «Туркменские рассказы», которые «написаны иначе, чем прежние сочинения», «несравнимо выше» [Трифонов 1985а, 173]. Начало третьего периода Трифонов связывает с рассказами «Вера и Зойка» и «Был летний полдень» (1966) и повестью «Обмен». Эта периодизация станет отправной в трифоноведении, будет уточняться (так, В.А. Суханов увидит в этапах творческого пути писателя углубление осмысления реальности: «роман с обществом» (социально-психологическое освоение человека и действительности), «роман с историей» (формирование историзма мышления и выход к философскому уровню осмысления), «роман со временем» (становление философской системы представлений о человеке, обществе, истории и бытии в их экзистенциальной интерпретации) [Суханов 2001]. Другой критерий периодизации для Ю. Трифонова – осознаваемые в разное время трудности писательского труда: ранний период – трудность поиска сюжета, затем сложность поиска слов, а далее трудность поиска мысли.
Перечитывая ранние произведения, Ю. Трифонов замечает изменение письма, формы, углубление проблематики, изменение в представлении о коммуникации с читателем:
Раньше писал более связно. Одно клеилось к другому, одно текло из другого. В этой связности была и связанность <…> Теперь стремлюсь к связям отдаленным, глубинным, которые читатель должен нащупывать и угадывать сам. «И надо о ставлять пробелы в судьбе, а не среди бумаг». Пробелы – разрывы – пустоты – это то, что прозе необходимо так же, как жизни. Ибо в них – в пробелах – возникает еще одна тема, еще одна мысль… [Трифонов 1985а, 90–91].
Если в ранний период творчества ему нравился диалог («в “Студентах” очень много разговаривают»), то в 1970-х гг. писатель уверен, что больше может выразить авторской речью («Меня преследует желание прессовать изображаемое, чтобы как можно больше сказать» [Трифонов 1985а, 262]).
Отвечая на вопрос Л. Аннинского «Как вы сейчас относитесь к “Утолению жажды”?», Ю. Трифонов признается:
Эта вещь еще очень близка мне. Сейчас мне трудно сказать, что там можно было бы написать лучше, чем это удалось. Труднее всего мне давалась там романтическая структура, общий производственный каркас, который соединяет все линии воедино. Линии человеческих характеров – вот что мне там дорого [Аннинский 1964, 3].
Мы слышим голос писателя в позиции вненаходимости, над текстом, осмысливающего разные моменты его создания. В то же время это позиция рефлексирующего возвращения к написанному, перечитывания в иной художественно-методологической перспективе. Такую позицию предполагает и сам жанр интервью, возвращающий писателя к прошлому литературному опыту. Не буквальное, но мысленное (в памяти) перечитывание ранних текстов обнаруживает рефлексируемую Ю. Трифоновым эволюцию, автор вычленяет из перечитываемого то ценное, из чего вырастает более поздняя глубокая философская проза.
В эссе «О критике и о “чем-то другом”» Ю. Трифонов признается, что любит читать критические статьи: талантливые, бездарные, злобные, называет себя читателем ревностным. И лишь оценочные статьи вызывают у него отторжение [Трифонов 1985а, 114]. В интервью, статьях писатель нередко дает оценку читательским отзывам на свои тексты. Эти высказывания позволяют увидеть еще один образ Трифонова-читателя, реконструировать образ идеального читателя в сознании автора. Протестуя против неверных или неточных интерпретаций, писатель «проговаривается»: подсказывает верный путь читательской рефлексии, задает верные критерии оценки своей прозы. Как увидим ниже, Ю. Трифонов упорно повторяет одни и те же суждения, и это сознательная установка – необходимо «пробить толстый слой читательской инерции» [Трифонов 1985а, 101].
Что вызывает резкое неприятие Трифонова? Во-первых, спрямленный читательский взгляд на текст, который требует видимой формы выражения авторской позиции. В эссе «О нетерпимости» Трифонов упоминает статью «Две магии искусства», в которой В. Дудинцев-читатель одобрительно отзывается только об одном эпизоде «Святого колодца» В. Катаева – сцене с Парасюком, которая представляет собой шарж на «дурака на ответственной работе». По мнению Ю. Трифонова, такой читательский взгляд, вычленяющий и ищущий злободневное, бьющее наповал, неточный, упускающий «исследование в глубине человека, в его душе, в том “святом колодце”, куда попытался заглянуть автор повести» [Трифонов 1985а, 71], – следствие нетерпимости, неумения «заглянуть в завтра и послезавтра» [Трифонов 1985а, 73]. Нетерпимость, прямолинейность писатель видит в критических отзывах об «Обмене», в частности, в оценке Лены как отрицательного персонажа. Реакция Ю. Трифонова: «Нет, товарищи В. Бедненко и О. Кирницкий, очень уж вы наотмашь и очень уж как-то негуманно подходите» [Трифонов 1985а, 86]. И здесь же он моделирует спрямленную позицию читателя: «Но могут сказать: позвольте, но вы же о с у ж д а е т е (разрядка автора – Ю.Г. ) Лену? Автор осуждает не Лену, а некоторые качества Лены, он ненавидит эти качества, которые присущи не одной только Лене…» [Трифонов 1985а, 86]. Ю. Трифонов не согласен с мнением читателей о том, что в «московских» повестях не проявляется авторское отношение, не видна авторская позиция. Такая слепота – результат прямого читательского зрения, которое не воспринимает сюжет, диалоги, интонации как носители авторской оценки [Трифонов 1985а, 250].
Идеальный читатель для Ю. Трифонова – читатель нестрастный (но и не равнодушный) в своем восприятии текста: «Страстность, как луч прожектора, всегда направлена в одну строну, всегда односторонняя» [Трифонов 1985а, 67], упрощает, ведет к нетерпимости и слепоте. Идеальная перспектива восприятия текста для него – широкая, развернутая вертикально (вглубь текста за пределы лежащего на поверхности) и горизонтально (в перспективу широких временных параллелей и взаимосвязей).
Другой протест Ю. Трифонова направлен против излишне широких заданных рецептивных перспектив, в которых может потеряться произведение и которые уничтожают его ценность. Такой взгляд рождал обвинения в узости темы и изображаемой сферы жизни, которые писатель воспринимал эмоционально остро и с которыми последовательно боролся: «Опять, скажут, автор толчется на пятачке: быт, быт, бутылка, двести граммов» [Трифонов 1985а, 88]. По Трифонову, быт – это «великое испытание» жизнью, скрещение «множества связей, взглядов, дружб, знакомств, неприязней, психологий, идеоло- гий», каждодневная необходимость выбора, «война, не знающая перемирия» [Трифонов 1985а, 88]. Идеальный читатель для писателя – читатель, не требующий формальной масштабности, способный видеть в «пятачке жизни» драматургию, саму жизнь, время. Это читатель, зрение которого может охватить не масштабность плоскости, измеряемую и видимую, а масштабность сферы, которая скрывает множество пересечений.
Еще один тип чтения, который вызывает неприятие Ю. Трифонова, – чтение-дистанция, когда персонаж воспринимается как «Другой, отличный от меня», некий тип. Такой читательский ракурс прямо противоположен важной рецептивной установке писателя – установке на узнавание: я создаю характеры нашего времени, мещане – это ты и я (Другой как Я): «Меня интересуют характеры. А каждый характер – уникальность, единственность, неповторимое сочетание черт и черточек…» [Трифонов 1985а, 85]. Вот почему так сопротивляется Ю. Трифонов попыткам критиков интерпретировать его произведения как произведения об интеллигентах-мещанах. Его идеальный читатель не имеет заданной заранее дистанцирующей перспективы чтения, наоборот, он открыт узнаванию Другого в себе и себя в Другом, способен к своего рода трансгрессии. В интервью с А. Бочаровым, отвечая на вопрос о воспитательном потенциале литературы, Ю. Трифонов говорит:
Читателю должно быть не по себе, он должен поеживаться и думать: «Черт возьми, это как будто про меня». Надо выволакивать на свет божий не эгоистов, а эгоизм – то, что существует в той или иной степени в каждом <…> я хочу, чтобы мы, писатели и читатели, заглянули в себя и хоть что-то неприятное – хоть какую-то ничтожную долю неприятного – заметили бы в себе и постарались бы потом, втихомолку, никому ничего не говоря, от нее избавиться [Трифонов 1985а, 255].
Последнее замечание автора включает еще одно качество идеального читателя – готовность и способность меняться, не считывая прямые дидактические посылы, а ощущая отторжение от узнанного себя в Другом. Ю. Трифонову важен момент ментального события сознании читателя.
Интерес для нас представляет и переписка Ю. Трифонова с читателями, фрагменты которой публиковались в «Литературной газете» (1991). В ней запечатлена реакция писателя на интерпретации его текстов. В письме Н.Л. Лей-дерману Ю. Трифонов, положительно отзываясь о попытке проанализировать «Дом на набережной» в контексте проблемы памяти, замечает: «Не согласен я и с Вашей фразой: “Книгу не разгадывают, а читают”. На это я Вам скажу: плохие книги читают, а хорошие – разгадывают» [Трифонов 1991, 13]. В этой последней реплике и метапозиция писателя по отношению к творческой деятельности (я пишу тексты неодномерные, в них есть пустоты, разрывы, подтекст и нет прямой дидактики), и представление об идеальном читателе (готовом к интеллектуально-эмоциональному диалогу с автором и текстом, считывающем несказанное напрямую), и характеристика себя как читателя (для меня чужой текст – загадка, я разгадываю смыслы, ищу проявления авторской позиции, механизмы чужого письма). Эту же фразу можно расценить как значимую проговорку автора. «Разгадывать» предполагает установку на то, что смысл заложен в текст автором. Следовательно, процесс рецепции текста – процесс не смыслопорождения, а смысловыявления. Для Ю. Трифонова как читателя и писателя в одном лице важно заложенное автором. В эссе «О нетерпимости» он пишет об этом прямо: «Самое трудное в искусстве <.> - умение посмотреть на шедевр глазами автора, а не только своими, затуманенными собственными идеями», результат последнего - «обсуждается не то, что есть, а то, чего нет» [Трифонов 1985а, 71].
Приближение к вложенному автором становится критерием (не)верности, (не)точности интерпретации и анализа. Этим во многом объясняется нетерпимость самого Ю. Трифонова по отношению к критикам, которые, по мнению писателя, читают не так и вычитывают не то. Этим же объясняется его острая реакция на реплику Л. Аннинского в интервью:
-
- Но я просто всегда удивляюсь, как иные критики предварительно составляют себе схему, а потом обрубают произведению руки и ноги и укладывают в прокрустово ложе.
-
- <...> фигурально говоря, я защищаю именно эту точку зрения: что как критик имею право обрубать произведению руки и ноги. И не потому, что я такой садист <.>
у меня есть ощущение вашего присутствия в литературе, которое, естественно, не совпадает с вашим внутренним самоощущением <.>
-
- Но как же не замечать такие отчетливые, наполненные авторским отношением и чувством сцены, как будто их вовсе не было?
-
- Потому что я опираюсь на те сцены, которые соответствуют моему ощущению.
-
- А-а-а! А другие выбрасываете? Значит, ваш суд несправедлив.
-
- А зачем мне справедливость? Ее у меня не более, чем у вас, и я также субъективен.
-
- Тогда это не суд, а, так сказать, самовыражение.
-
- Разумеется. <.> Мое суждение - это мое самовыражение во взаимодействии с вами как писателем.
-
- Тогда я, прошу прощения, здесь ни при чем.
-
- Вы и есть ни при чем. Вы написали - дело сделано: ваше детище гуляет само по себе, и мое право с ним взаимодействовать [Трифонов 1985а, 314-315].
В этом разговоре сталкиваются две непримиримые позиции: Л. Аннинского (в тексте может проявиться и то, что не вполне осознает писатель, создавая текст (шлейермахеровское «читатель знает больше автора»), текст - открытая структура и предполагает приращение смыслов во взаимодействии с воспринимающим сознанием) и Ю. Трифонова, выступающего за точность совпадения вложенного и вычитанного, объективность, опору на слово.
Протест Ю. Трифонова в основе своей этический. Эгоцентризм критиков для него - форма неуважения к автору. В беседе с корреспондентом «Литературной газеты» он говорит об этом так: «Критика чаще всего бывает озабочена тем, чтобы выразить собственные мысли, - отсюда натяжки, приблизительность, а подчас неуважение к тому, что желал сказать автор» [Трифонов 1985а, 305]. В ответ на суждение Л. Аннинского об автономности критики произносит:
Но здесь по отношению к писателям есть какая-то безнравственность, если уж хотите точное слово [Трифонов 1985а, 316];
Почему же критик не задумывается над тем, что именно хотел сказать автор? Эта безнравственность дошла до своего апогея, когда один критик начал писать статью о моих вещах, имея перед собой такую схему: Трифонов может писать только о том, что он пережил [Трифонов 1985а, 317].
В ответ на пожелание не читать критику заявляет: «Спасибо. Вы очень добры. Но все же это безнравственность» [Трифонов 1985а, 318]. В эссе «О критике и о “чем-то другом”» признается: «…хочу, чтобы и меня уважали: не искажали бы мое слово, мою концепцию» [Трифонов 1985а, 115].
К названным выше свойствам идеального читателя добавим следующие, реконструируемые из размышлений Ю. Трифонова: независимость суждений, способность воспринимать текст в единстве содержания и формы [Татьяниче-ва 1966, 42–43], тонкость. Это читатель искушенный, у которого «есть опыт отбора литературы, который понимает, как нужно читать, умеет сопоставлять, о чем-то догадываться, что-то видеть между строк…» [Трифонов 1985а, 284]; с развитым воображением, способный нащупать и угадать отдаленные, глубинные связи, заполнить пробелы, «ибо в них – в пробелах возникает еще одна тема, еще одна мысль» [Трифонов 1985а, 90–91]. И, наконец, самое важное, что ждет от читателя Ю. Трифонов, – способности уловить «нерв истории», «времен связующую нить», проходящую через каждого, уловить в героях и в себе проявление феномена времени, сложного для понимания и представления [Трифонов 1977, 101].
Таким образом, рецепция писателем своих текстов и их прочтений позволяет сформировать представление о Ю. Трифонове-читателе. Перед нами читатель, ревностно защищающий границы текста и смысла, в восприятии текста идущий за автором. Эти установки имеют этическую основу: уважение к автору и его замыслу, недопущение эгоизма, который проявляется в набрасывании на текст собственных заданных сеток значений, а также в неспособности узнать Другого в себе и себя в Другом.