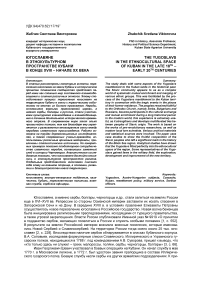Югославяне в этнокультурном пространстве Кубани в конце XVIII - начале XX века
Автор: Жабчик Светлана Викторовна
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 4, 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрены некоторые аспекты переселения югославян на земли Кубани в историческом прошлом. Славянское сообщество предстает перед нами как сложный мир системного взаимообогащения и слияния различных этносов. Этому способствовал процесс переселения югославян на территорию Кубани в связи с трагическими событиями на местах их былого проживания. Народы, оставшиеся верными православной церкви, а именно сербы, болгары и русские, стали участниками культурного взаимообмена и взаимообогащения в течение длительного исторического временного отрезка. В современном мире этот опыт чрезвычайно полезен, так как благодаря ему укрепляются и развиваются многогранные связи между народами славянского происхождения. Работа основана на трудах дореволюционных исследователей, а также современных ученых-краеведов, использованы различные архивные материалы, привлечены статистические источники. На конкретных примерах показано плодотворное сотрудничество славянских народов, оставивших заметный след в истории Черноморья. Аналитические исследования показали, что югославяне достойно вписались в этнокультурное пространство региона. Отдельные представители югославян снискали себе славу на военном поприще, в освоении, развитии и благоустройстве новой территории.
Короткий адрес: https://sciup.org/149134779
IDR: 149134779 | УДК: 94(470.62)“17/19” | DOI: 10.24158/fik.2020.4.10
Текст научной статьи Югославяне в этнокультурном пространстве Кубани в конце XVIII - начале XX века
Югославяне, а именно сербы, болгары, черногорцы и др., стали селиться на землях России еще в XVI–XVII вв. Репрессии со стороны Османской империи заставили их искать спасения в Запорожской Сечи и на Дону. В середине XVIII в. в условиях правления Елизаветы Петровны осуществилось новое переселение югославян в Российское государство. Новая волна беженцев была инициирована религиозными преследованиями, исходящими от турецкого правительства, а также угрозой закрепощения. Власти России опубликовали Именной указ № 9919 «О принятии в подданство сербов, желающих поселиться в России и служить особыми полками» [1, с. 552]. В результате на землях Российской империи возникли военные поселения, которые именовались Новой Сербией и Славяносербией. На территории России тогда осело около 25 тыс. юго-славян [2, с. 228]. Впоследствии наличие сербов обнаруживается в списках Кубанского корпуса. В.А. Соловьев, исследовав формулярные списки Славянского, Иллирического и Украинского гусарских полков, находившихся в 1788 г. под командованием А.В. Суворова, пришел к выводу, что «кто только здесь ни служил – греки, малороссы, поляки, сербы, черногорцы, болгары» [3, с. 66].
Иван Георгиевич Шевич участвовал в боевых операциях на Кубани. Он начал службу в мае 1770 г. в Московском легионе, в 1772 г. был удостоен звания прапорщика в составе Иллириче-ского гусарского полка. Боевую службу несли сербы и в других армейских подразделениях. К при- меру, в Астраханском драгунском полку служил полковник Райко Степанович Депрерадович, который раньше являлся подполковником австрийской армии. В 1752 г. он приехал в Россию и дослужился до чина генерал-майора [4, с. 171–172].
Яркой личностью среди югославян был сербский дворянин Александр Семенович Пишче-вич. Он прославился не только на поле брани, но и как выдающийся мемуарист. Так, он участвовал «в 1788 г. по переправе за Кубань 21 и 26 сентября в сражениях, а потом и к городу Анапе» [5, с. 484–485]. А.С. Пишчевич опубликовал очень содержательные мемуары, которые были напечатаны в «Чтениях Московского общества». Значительный интерес представляют воспоминания А.С. Пишчевича о деятельности сербских офицеров на Кубанских просторах: семей С.Г. Зорича, И.Е. Белича, И. Хорвата, Депрерадовичей и П.А. Текели. Своей храбростью и военным искусством отличились сербские офицеры полковник Иван Штерич и капитан Дмитрий Миокович, которые сражались в корпусе А.В. Суворова.
Сербские военнослужащие проявляли себя не только в бою, но и в литературной сфере. Так, Савва Текели, родственник известного генерал-аншефа П.А. Текели, находясь на Северном Кавказе, обстоятельно изучил и опубликовал интересные сведения о жизни казачества, а также об обычаях черкесов, кабардинцев, ингушей, кавказских татар [6, с. 500].
Особое место среди югославян занимает генерал-аншеф П.А. Текели, серб по национальности. Он принимал участие в боевых операциях на Кубани. Его имя увековечено в наименовании станицы Петровской, на месте которой был одноименный пост, созданный по приказу П.А. Текели. Верой и правдой служил России и сербский офицер-дворянин Георгий Арсеньевич Емануель. В честь него одна из станиц стала именоваться Георгие-Афипской, ныне это поселок Афипский [7, с. 13, 51].
Многие южные славяне нашли свою судьбу в рядах казачества. В состав Екатеринославского казачьего войска (1787–1796) входил Бугский полк, в котором служили болгары, сербы, черногорцы и др. Павел I распустил Бугское войско, однако Александр I его восстановил. Появился указ «по войску, сформированному в 1803 г. 28 апреля…, в котором предоставлено бугским казакам право приумножать сословие их только людьми из-за границы или единоплеменными» [8, л. 22]. В этих условиях только южные славяне могли быть зачислены в ряды войска. Позднее, в 1802–1804 гг., был сформирован Кавказский казачий полк, в который они вошли.
В 1788 г. было создано Черноморское казачье войско. В его составе имелись также сербы, болгары, арнауты. Это отмечает Ф.А. Щербина, упоминая старшину Сербина [9, с. 494]. Документы свидетельствуют, что югославяне зачастую переселялись на земли Черноморского войска целыми семьями. Так, в ведомостях Черноморского казачьего войска указывается, что за декабрь 1790 г. «из Алексапольского уезда местечка Магилева на Кубань переселились 18 сербов, в их числе мужчины, женщины, дети. А именно: бывший запорожец Игнат Радченко, жена его Настасья, сын их Фома и брат его Антон» [10, л. 123].
Заслуживает внимания история бывшего Усть-Дунайского Буджакского войска. Оно было основано в 1807 г. организованными бывшим «запорожцем Трофимом Майдобуро в Турции» 130 казаками, которых он привел из-под Измаила [11, л. 43 об.]. Впоследствии задунайские сечевики вошли в состав Черноморского казачьего войска. В списке, составленном «в коше Усть-Дунай-ского Буджакского войска», указывается, что в Рогивском курене служил Ерий Червонный – из сербов [12, л. 46].
Черноморское войско состояло из 40 куреней, при этом два из них именовались Сербский и Болгарский. Из Сербского куреня в состав войска были приняты «17 человек – из сербов, пребывавших в турецкой области: атаман Еманда Панайот, Ергий Брашеван, Марко Голик, Григорий Рыбалка, Ефим Резник, Аким Гортов, Петр Сербин, Афанасий Сербин, Николай Брашеван и Дио-рдий Кутеник» [13, л. 70 об.].
В период русско-турецкой войны 1806–1812 гг. и в результате разгрома Первого сербского восстания немало сербов искали спасения в России. Значительные денежные суммы были направлены на переселение сербов из Австрии в Россию. Часть сербских переселенцев осели «в г. Хотин Бессарабской области в 1814 г.» [14, л. 11055]. Значительная часть южных славян, переселившихся в Россию, приняла активное участие в общественной жизни. Об этом говорит жизненный путь М.А. Милорадовича, С. Мазаровина, а также Р.Я. Мирковича.
Югославяне несли службу и в Азовском казачьем войске. Оно было сформировано после русско-турецкой войны 1828–1829 гг. из запорожских казаков, бежавших из Турции. О том, что среди них были сербы, указывает тот факт, что из четырех казаков, написавших прошение, двое имели фамилию Сербин – Степан и Тимофей [15, с. 109].
В 1860 г. Черноморское казачье войско стало называться Кубанским. К этому времени кубанское казачество было «полиэтнично в своей основе. Переселившись в этот регион, сербы и черногорцы вливались в войско, ассимилировались, и в основном на югославянское происхождение указывают их фамилии: Жежель, Божич, Жарко, Божко, Бабич, Николич, Буняк, Босанец, Милошевич, Зорич и т. д.». Это одна из теорий генезиса кубанских фамилий в исследованиях офицера Ейского полка М.И. Недбаевского [16, л. 97].
В ходе хозяйственного освоения Закубанья возникла идея о перемещении «на Кавказ христианских выходцев из Турции», между ними имелись и черногорцы [17, с. 445]. Среди южных славян-переселенцев встречались и хорваты. Так, в 1874 г. начал службу в военно-топографическом отделе Кавказского военного округа Боголюб Иванович Каталинич. В России Б.И. Катали-нич стал исполнять обязанности классного топографа. Он занимался производством съемок, межеванием и чертежными работами и получал жалованье «из усиленного оклада» [18, с. 73].
В 1860-е гг. для многих сербов и черногорцев основным занятием стала служба в казачьем войске. Так, например, потомки сербских фамилий казаки Сербины жили в нескольких станицах и куренях Кубани. В формулярных списках станицы Новоалександровской имеются сведения о трех казаках с фамилией Сербин [19, л. 17, 19]. В станице Екатериновской служил сотник Г.М. Брасла-вец, который участвовал в сражениях на германском и турецком фронтах. За боевые заслуги он был награжден орденом Св. Станислава 3-й степени [20, л. 495, 495 об.].
В архивных документах прослеживаются лишь отдельные моменты присутствия югославян на Кубани. Об этом говорит и перепись населения 1897 г., результаты которой свидетельствуют о том, что далеко не все уроженцы Сербии и Черногории были учтены на территориях Кубанской области и Черноморской губернии. Упоминаются 15 мужчин и 8 женщин из Сербии [21, с. 32] и 6 мужчин и 3 женщины из Черногории [22, с. 15].
В преддверии Первой мировой войны власти Черноморской губернии стали более тщательно учитывать национальность жителей. Согласно статистическим данным за 1914–1915 гг., в губернии проживали 12 сербов – 10 мужчин и 2 женщины. Кроме того, были учтены хорваты – 9 мужчин и 2 женщины [23, л. 133, 134]. В июле 1914 г. в поле зрения жандармского управления оказались и австрийские подданные. По данным этого ведомства, среди уволенных работников лесопильного завода в Геленджике было трое австрийских подданных, хорватов по национальности. На территории Кубани находилось значительное количество австрийских военнопленных, среди которых имелись хорваты, словенцы и сербы. Некоторые из них перешли на сторону России и влились в добровольные славянские формирования, созданные в российской армии.
Таким образом, югославяне, которые обрели новую родину в России, органически слились с кубанским казачеством. Произошла добровольная ассимиляция представителей славянских этносов. Многие из южных славян достойно проявили себя на военной службе в рядах Запорожского, Екатеринославского, Черноморского, Бугского, Кавказского, Усть-Дунайского Буджакского, Азовского и Кубанского казачьего войска. В антропонимии и топонимии Кубани просматриваются следы тесного кубанского и южнославянского сотрудничества. Навсегда вошли в историю Кубани имена таких видных представителей южных славян, как П.А. Текели, А.С. Пишчевича, графа И.М. Подгоричани-Петровича, Г.А. Емануеля, Г.Н. Милашевича, которые внесли значительный вклад в развитие российского государства.
Ссылки:
-
1. Полное собрание законов Российской империи. Собр. 2. Т. 13. СПб., 1753. Ст. 9919. С. 552.
-
2. Бажова А.П. Русско-югославянские отношения во второй половине XVIII в. М., 1982. 288 с.
-
3. Соловьев В.А. Суворов на Кубани. 1778–1793. Краснодар, 1986. 190 c.
-
4. Матвеев О.В., Ракачев В.Н. Сербский след в истории Кубани // Мир славян Северного Кавказа. Памяти В.П. Попова. Краснодар, 2007. Вып. 3. С. 171–193.
-
5. Кавказская война: истоки и начало. 1770–1820 годы. СПб., 2002. 552 c.
-
6. Текели С. Автобиография. Пересказ и извлечения // Русский архив. М., 1878. Кн. 3, вып. 12. С. 483–506.
-
7. Вахрин С.И. Биографии кубанских названий (популярный топонимический словарь Краснодарского края). Краснодар; Армавир, 1995. 78 с.
-
8. Государственный архив Краснодарского края (ГАКК). Ф. 250. Оп. 2. Д. 90. Л. 22.
-
9. Щербина Ф.А. История Кубанского казачьего войска: в 2 т. Т. 1. Екатеринодар, 1910. 736 с.
-
10. ГАКК. Ф. 249. Оп. 1. Д. 83. Л. 123, 171, 172 об., 239.
-
11. Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА). Ф. 470. Оп 1. Д. 2. Л. 43 об.
-
12. ГАКК. Ф. 250. Оп. 2. Д. 151. Т. 1. Л. 19, 30, 36, 37, 46.
-
13. Там же. Л. 70 об.
-
14. Архив внешней политики Российской империи (АВПРИ). Ф. 146. Оп. 495. Д. 11055.
-
15. Жуков И.В. Югославяне и их потомки в составе казачества // Мир славян Северного Кавказа. Краснодар, 2004. Вып. 1. С. 99–112.
-
16. ГАКК. Ф. 670. Оп. 1. Д. 67. Л. 97.
-
17. Короленко П.П. Закубанский край // Ландшафт, этнографические и исторические процессы на Северном Кавказе в XIX – начале XX века. Нальчик, 2004. С. 296–450.
-
18. Нигалатий М. Граничар на русской службе // Родина. 2008. №. 2. С. 71–74.
-
19. ГАКК. Ф. 396. Оп. 5. Д. 784.
-
20. Там же. Л. 495, 495 об.
-
21. Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. Т. 65. Кубанская область. Тетрадь 3 (последняя). СПб., 1905. 263 с.
-
22. Там же. Т. 70. Черноморская губерния. Тетрадь 3 (последняя). СПб., 1903. 115 с.
-
23. Архив администрации г. Новороссийска. Ф. 74. Оп. 1. Д. 15. Л. 3 об., 4, 41.
Редактор, переводчик: Сергейчик Людмила Ивановна
Список литературы Югославяне в этнокультурном пространстве Кубани в конце XVIII - начале XX века
- Полное собрание законов Российской империи. Собр. 2. Т. 13. СПб., 1753. Ст. 9919. С. 552
- Бажова А.П. Русско-югославянские отношения во второй половине XVIII в. М., 1982. 288 с
- Соловьев В.А. Суворов на Кубани. 1778-1793. Краснодар, 1986. 190 c
- Матвеев О.В., Ракачев В.Н. Сербский след в истории Кубани // Мир славян Северного Кавказа. Памяти В.П. Попова. Краснодар, 2007. Вып. 3. С. 171-193
- Кавказская война: истоки и начало. 1770-1820 годы. СПб., 2002. 552 c