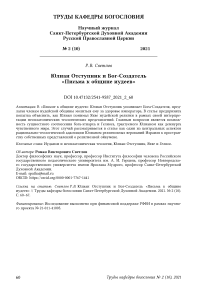Юлиан Отступник и бог-создатель "Письма к общине иудеев"
Автор: Светлов Роман Викторович
Журнал: Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии @theology-spbda
Рубрика: Теология
Статья в выпуске: 2 (10), 2021 года.
Бесплатный доступ
В «Письме к общине иудеев» Юлиан Отступник упоминает Бога-Создателя, предлагая членам иудейской общины молиться ему за здоровье императора. В статье предпринята попытка объяснить, как Юлиан понимал Яхве иудейской религии в рамках своей интерпретации неоплатонических теологических представлений. Главным вопросом является возможность сущностного соотнесения бога-этнарха и Гелиоса, трактуемого Юлианом как демиурга чувственного мира. Этот случай рассматривается в статье как один из центральных аспектов рационально-теологической адаптации Юлианом религиозных верований Израиля к пространству собственных представлений о религиозной ойкумене.
Иудаизм и неоплатоническая теология, юлиан отступник, яхве и гелиос
Короткий адрес: https://sciup.org/140294890
IDR: 140294890 | DOI: 10.47132/2541-9587_2021_2_60
Текст научной статьи Юлиан Отступник и бог-создатель "Письма к общине иудеев"
About the author: Roman Viktorovich Svetlov
Doctor of Philosophy, Professor, Professor at the Institute of Human Philosophy of the Herzen Russian State Pedagogical University, Professor of Yaroslav-the-Wise Novgorod State University, Professor of St. Petersburg Theological Academy.
Article link: Svetlov R. V. Julian the Apostate and Creator God from the «Letters to the Jewish Community». Proceedings of the Department of Theology of the Saint Petersburg Theological Academy , 2021, no. 2 (10), pp. 60–67.
Acknowledgments : The research was funded by RFBR, project number 21-011-41005.
Попытки каким-то образом адаптировать друг к другу теологические позиции разных по типу систем верований неоднократно имели место в истории раннего Средневековья. И один из наиболее показательных персонажей в этом отношении — Юлиан Отступник, а точнее, его программа возрождения «отеческих нравов», получившая отражение как в его собственных текстах, так и в сообщениях современников. Суть происходившего в целом уже хорошо исследована, и обычно споры идут только о каких-то деталях — например, о степени влияния неоплатонизма, халдаизма, христианства, гипотетической теологии Митры на концептуализацию Юлианом эллинистически-римской религиозной доктрины (137-143)1. Юлиан, сохраняя ритуалистическую сторону языческой религии, резко «осовременивал» ее — осовременивал в реалиях своей эпохи, вольно или невольно добавляя отдельные черты из реалий и практик иудаизма и христианства. От первого бралось подчеркнутое благочестие и верность Закону Моисея — такого же благочестия и верности традициям Юлиан ожидал и от жречества возрождаемой (на самом деле, конструируемой) религии. От второго — его социальные практики (прежде всего, дела общественного призрения, взаимопомощь, проповедь милосердия, отказ от ряда негуманных законов), централизацию (Юлиан не строил нечто подобное христианской Церкви, организационная структура которой еще продолжала складываться; но звание великого понтифика для него было вполне актуальным, он воспринимал себя как верховного иерарха и иерофан-та Империи, «языческого первоепископа», непосредственного распорядителя религиозными делами), наконец, христианский монотеизм оказал воздействие и на его риторику, посвященную божественной сфере — при всем влиянии на «теологию» Юлиана неоплатонизма сирийской и пергамской школ и халдаизма. Идеал, к которому стремился Юлиан, конечно, существенно отличался от «классического язычества», как мы себе его представляем2. Зато именно в этой области наиболее ярко проявляются попытки той рационально-теологической адаптации, о которой мы писали выше. Один из ее примеров мы и разберем.
Подготовленное накануне Персидского похода письмо к общине иудеев (точнее — к патриарху Тивериадскому Хилелю) содержит достаточно много фраз, которые должны были настроить носителей иудейской веры максимально позитивно по отношению к римскому императору и римскому государству (отказ от любого незаконного налогообложения, наказание виновных в притеснениях при Констанции, обещание восстановить Иерусалимский Храм). Вместе с тем мы видим там и вот какие слова:
«А потому, наслаждаясь миром, вы сможете обратить еще больше усердных молитв за мое царствование к всемогущему Богу-Создателю (δημιουργῷ 0еф), который почтил меня тем, что увенчал короной своею незапятнанной десницей… Те же, кто всецело свободен от забот, могут возрадоваться всей своей душой и возносить молитвы о здравии государя к Всевышнему, к Тому, кто способен дела моего царствования привести к прекрасным итогам».
Вне всякого сомнения, Юлиан хорошо знал христианскую доктрину и, благодаря ей, достаточно хорошо ветхозаветный иудаизм. Поэтому он должен был прекрасно понимать, что в словах о Боге-Создателе и Всевышнем иудеи увидят указание на Яхве. Видим ли мы здесь лишь политическое лукавство Юлиана, который создавал это послание, а также планировал восстановить Иерусалимский Храм с очевидно политической целью добиться лояльности со стороны иудейских общин как Империи, так и Месопотамии — грядущего театра военных действий против персов?3 Или же речь идет о чем-то большем — о попытке найти соответствие между религиозными представлениями иудеев и неоплатонической теологией?
Никак не отвергая прагматический политический аспект стратегии, выбранной Юлианом в отношении иудеев, хочется все-таки указать на тот факт, что император находил возможность соотносить даже самые прагматически выверенные элементы своей деятельности с общим мировоззренческим основанием. Следовательно, и в словах о Боге-Создателе перед нами не только заигрывание с иудейским патриархом.
Юлиан, конечно же, не отождествляет упомянутого здесь Создателя и трансцендентное Единое. Речь идет о Гелиосе, Создателе нашего телесного мира. Важно понять, как он соотносится в представлениях Юлиана с Яхве, реальности которого император не отрицал, но считал его собственно иудейским богом, покровителем еврейского племени. Во «Фрагменте письма к жрецу» Юлиан полагает, что еврейский бог — действительно велик, но ему «не повезло» с экзегетами и пророками, которые принимали великий свет за грозный огонь и пугали евреев описанием его смертельно опасного могущества (Epist. 89, 295d-296a). Яхве — племенной бог, покровитель именно еврейского племени, один из многих подобных существ (Galil., 106d-e).
Благодаря деятельности Моисея в иудейском сознании произошла контаминация двух фигур — их племенного бога и Создателя; на первого иудейские теологи и пророки перенесли характеристики последнего (насколько они вообще оказались им открыты)4. Этим разрешаются как минимум две коллизии, которые могут возникнуть при прочтении указанной выше фразы из «Письма к общине иудеев».
Первая: Юлиан безусловно претендует на религиозно-правовую легитимность своей власти; его представления о легитимности вырастают из концептов, сформировавшихся при становлении системы домината, изрядно сдобренных его неоплатоническими идеями. Пример таких представлений (верховный Бог вручает государю-монарху империум) можно увидеть и в раннехристианской политической теологии, например, у Евсевия Кесарийского. Иудеям же такой способ обоснования права на власть представлялся крайне сомнительным, так как в Юлиане отсутствовала кровь Давидова.
Но Юлиан и не претендует на статус иудейского владыки. Он выше отдельной Иудеи, Галлии или Эллады. Он движим иным, верховным богом, с которым, как мы помним, иудеи «спутали» своего Яхве. Прояснение того, кому на самом деле должны быть направлены молитвы иудеев, вообще оставляет за скобками тему наследников Давида. Статус Юлиана и его бога-покровителя позволяет ему даже претендовать на создание Третьего Храма: традиция передачи права на это по крови отменяется универсальностью власти Римской империи. Всеобщность выше партикулярности: но высшее при этом все равно опекает низшее — отсюда и забота о сакральной святыне иудеев со стороны императора, который находится как бы «над религиями».
Вторая: Юлиан фразой о Боге-Создателе не отождествляет его с Яхве, а, напротив, растождествляет их, точнее — показывает истинные между ними взаимоотношения. В уже упомянутом «Фрагменте письма жрецу» Юлиан сообщает, что иудеи «в своем роде весьма благочестивы, ибо почитают… [Бога], который воистину всемогущ и благ, и управляет чувственным миром, которому, как я прекрасно знаю, и мы поклоняемся, но под другими именами» (454а, пер. Д. Е. Фурмана). Их ошибка состоит в том, что они не почитают богов других народов. Эти слова вызывают вопрос о том, как связаны Яхве с Гелиосом — «царем» и демиургом чувственного мира? Как вообще был возможен перенос Моисеем свойств Гелиоса на природу бога-этнарха?
Ответ содержится в теологической системе Юлиана, которая, с одной стороны, вызвана неоплатонической теологией Ямвлиха, опирающейся на «Халдейские оракулы»5, с другой, — некоторыми его собственными новациями, возможно, связанными с личным «религиозным опытом» императора. В последние годы жизни Юлиан совершенно определенно воспринимал себя как орудие божества. В послании к «Фемистию философу» он утверждает, что в нем нет никаких собственных способностей, но все, что получено — от Бога: «Вероятно, благо, которое превосходит мои старания и мое знание о себе, даровано будет людям Богом через меня! ... ибо я не обнаруживаю в себе никакого блага, кроме этого, не считаю себя носителем высочайших способностей, да и не имею и в действительности; вот о чем я во всеуслышание свидетельствую: тебе не следует именно от меня ждать великих свершений, но во всем положиться на Бога» (demist. 267а)6. Такая самооценка приводила Юлиана к убеждению, что боги-покровители постоянно подсказывают ему нечто7, а потому даже обычный опыт дискурсивной деятельности воспринимался как религиозный. К этому следует прибавить классическую образованность Юлиана. Культурный горизонт, в который он был помещен благодаря воспитанию в детстве и «высшему» риторически-философскому образованию в Афинах, всегда присутствует в его сочинениях8. Юлиан вынужден постоянно согласовывать современность с классикой Гомера, Геродота, Платона. И, отстаивая преимущества «старины» перед «новациями», он старается сделать «старину» более целостной, единой, непротиворечивой. Достаточно напомнить, как виртуозно Юлиан пытался примирить киническое учение и платонизм9.
Этот, собственный, опыт Юлиана не часто становится предметом исследования, обычно Апостата считают всего лишь эпигоном антиохийского и пергамского неоплатонизмов, не слишком «продвинутым» в собственно метафизике и теологии. Однако такой опыт не мог не оказывать влияния на его теологические концепты, уже по той хотя бы причине, что Юлиан был уверен в реальности собственного империума — эта уверенность распространялась и на область его политических представлений, и (несмотря на все реверансы Юлиана перед философами-современниками) на область теологии; точнее, даже так — она объединяла эти области, так что его теологические сочинения, вроде «Гимна к Царю Солнцу», были одновременно и текстами, легитимирующими его единовластие10.
Результат оказывается довольно запутанным и уж по крайней мере не во всем соответствует «доктринальному» неоплатонизму Ямвлиха11. Но одну тенденцию теологической мысли Юлиана мы можем констатировать с полной уверенностью. Сложная и разветвленная иерархия богов у него имела своей задачей не только прояснить и оправдать их многообразие, но и связать их друг с другом. Гелиос как раз — классический пример теологической стратегии Юлиана. С одной стороны, Солнце производится на свет самим Первоначалом и становится центром и средоточием умопостигаемого универсума. С другой, оно проявляет себя в чувственном мире, имея те же самые функции, что и умопостигаемый Гелиос, но реализуя их в соответствии с особенностями телесной реальности, т. е. как ее демиург (Orat. IV: 136а и далее, особенно 144d). Будучи срединным и соединяя других богов, Гелиос одновременно дарует им силы и энергии, причем таким образом, что все они в каком-то смысле являются его проявлениями. Все дары, которые люди получают в жизни, по мнению Юлиана, происходят от Гелиоса: даже если они даются через других богов, их истоком является Солнце. Все это позволяет Юлиану, в частности, утверждать, что Гелиос является создателем Рима, присутствуя в нем через Зевса-Юпитера и других богов, «обитающих» в храме Юпитера Капитолийского (Ibid. 153d).
Данный пример позволяет реконструировать отношение Юлиана и к Яхве. Будучи богом-этнархом, тот, тем не менее, являет собой силы и энергии Гелиоса. Поэтому поклонение Яхве закономерно является поклонением «Высочайшему». «Теология Моисея» движется в этом направлении, но, как мы уже говорили, с точки зрения Юлиана путает божеств различных рангов (и даже не замечает начало высшее, чем создатель космоса)12.
Можно предположить, что, по мнению Юлиана, «теологическая путаница» и стала причиной «отставания» иудеев в сфере наук и искусств, которые являются безусловной ценностью для императора, а также утери ими государственной независимости.
С другой стороны, как полагает Юлиан, предки Моисея были носителями более «правильной» теологии. Император отказывается принимать Закон Моисея, но он вполне готов почитать «Бога Авраама, Исаака и Иакова», которые были халдеями, принадлежа к роду «священников и теургов» (Galil., 354b). Учитывая безусловный авторитет, который получили «Халдейские оракулы» в неоплатонической среде в то время, упоминание в Ветхом Завете Ура Халдейского как родины Авраама Юлианом было воспринято в качестве исторического подтверждения близости праотцов Израиля древней мудрости (и, возможно, было одним из дополнительных аргументов для Юлиана к тому, чтобы попытаться найти возможность союза с иудеями13). Поскольку происхождение халдаизма связано с историей магико-теургических практик и вызванных ими нарративов I–II вв. по Р. Х., то не следует забывать, что в текстах «магических папирусов» мы неоднократно встречаем гебраизмы, использовавшиеся при передаче «подлинных» или «варварских» имен богов14. Все это подтверждало мнение Юлиана о «халдейском» истоке некоторых особенных знаний древних евреев.
Мы видим, как активно Юлиан использует различные аргументы в пользу рациональной адаптации религиозных верований Израиля с пространством собственных представлений о религиозной ойкумене. Обратим внимание, что это не просто теологумен «кабинетного ученого». Рассуждения о природе и истории иудаизма как религиозного явления являются для Юлиана фундаментом, на котором строится его политическая практика, как в области религиозного права, так и в вопросе, как сказали бы сейчас, «национальной политики». Философско-теологическая изощренность, опирающаяся на неоплатоническую манеру экзегетики, созданную в антиохийской школе Ям-влиха и делающую основной упор на аллегорическом методе, позволяет ему соединить, казалось бы, несоединимое — язычество и авраамическую религию, обнаруживая сходство не только в этническом и обрядовом характере язычества и иудаизма (в частности, в жертвоприношениях и вниманию к предсказаниям), но и в той области, которая, казалось, радикально различает их — в объекте религиозного поклонения. И обращение в «Письме к общине иудеев» к «Богу-Создателю» и «Всевышнему» было не политическим и риторическим лукавством, но опиралось на неоплатоническую теологию в ее «юлиановском» варианте.
Список литературы Юлиан Отступник и бог-создатель "Письма к общине иудеев"
- Athanassiadi P. Julian. An Intellectual Biography. Routledge, 2014. P. 169-181.
- Bowersock G. Julian the Apostate. London, 1978.
- Bradbury S. Julian and the Jews // А Companion to Julian the Apostate. Leiden; Boston: Brill, 2020. Р. 267-293.
- Nesselrath H.-G. Julian's Philosophical Writings // А Companion to Julian the Apostate. Leiden; Boston: Brill, 2020. Р. 38-63.
- Riedweg Chr. Anti-Christian Polemics and Pagan Onto-Theology: Julian's Against the Galilaeans // А Companion to Julian the Apostate. Leiden; Boston: Brill, 2020. Р. 267-293.
- Smith R. Julian's Gods. Religion and philosophy in the thought and action of Julian the Apostate. Routledge, 1995. Р. 139-162.
- Wiemer H.-U. Revival and Reform: the religious policy of Julian // А Companion to Julian the Apostate. Leiden; Boston: Brill, 2020. Р. 207-244.
- Нок А.Д. Обращение. Старое и новое в религии от Александра Великого до Блаженного Августина. СПб, 2011.
- Петров А. В. Феномен теургии. Взаимодействие языческой философии и религиозной практики в эллинистическо-римский период. СПб, 2003.
- Светлов Р. В. Юлиан Отступник — «последний киник»? // Платоновские исследования. 2018. Т. 9. № 2 (9). С. 106-120.
- Сидаш Т.Г. Как читать спекулятивное богословие императора Юлиана? // Юлиан. Полное собрание творений. СПб, 2016. С. 1050-1061.