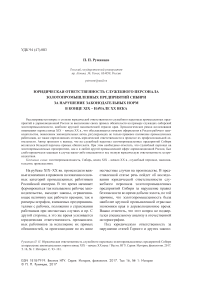Юридическая ответственность служебного персонала золотопромышленных предприятий Сибири за нарушение законодательных норм в конце XIX - начале XX века
Автор: Румянцев Петр Петрович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Российская история
Статья в выпуске: 1 т.16, 2017 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается вопрос о степени юридической ответственности служебного персонала промышленных предприятий в дореволюционной России за выполнение своих прямых обязательств на примере служащих сибирской золотопромышленности, наиболее крупной экономической отрасли края. Хронологические рамки исследования охватывают период конца XIX - начала XX в., что обуславливается началом оформления в России рабочего законодательства, появлением законодательных актов, регулирующих не только правовое положение промышленных работников, но также определяющих степень юридической ответственности в процессе их профессиональной деятельности. Автор приходит к выводу, что на служебный персонал золотопромышленных предприятий Сибири возлагался большой перечень прямых обязательств. При этом необходимо отметить, что служебный персонал на золотопромышленных предприятиях, как и в любой другой промышленной сфере дореволюционной России, был слабо юридически защищен в случае каких-либо инцидентов и нес полную юридическую ответственность за происшествия.
Золотопромышленность, сибирь, конец xix - начало xx в., служебный персонал, законодательство, происшествия
Короткий адрес: https://sciup.org/147219702
IDR: 147219702 | УДК: 94
Текст научной статьи Юридическая ответственность служебного персонала золотопромышленных предприятий Сибири за нарушение законодательных норм в конце XIX - начале XX века
На рубеже XIX–XX вв. происходили важные изменения в правовом положении основных категорий промышленных работников Российской империи. В это время начинает формироваться так называемое рабочее законодательство, выходят законы, ограничивающее величину как рабочего времени, так и размеры штрафов, взимаемых предпринимателями с рабочих, положения о страховании работников при несчастных случаях и пр. С другой стороны, в это же время усиливается юридическая ответственность промышленных работников за исполнение их прямых обязанностей, за произошедшие по их вине несчастные случаи на производстве. В представленной статье речь пойдет об исследовании юридической ответственности служебного персонала золотопромышленных предприятий Сибири за нарушение правил безопасности во время добычи золота, по той причине, что золотопромышленность была наиболее крупной промышленной отраслью экономики края в дореволюционное время. Важно отметить, что этот вопрос не подвергался специальному анализу в отечественной историографии.
Под юридическую ответственность за нарушение статей Горного и других законо-
Румянцев П. П. Юридическая ответственность служебного персонала золотопромышленных предприятий Сибири за нарушение законодательных норм в конце XIX – начале ХХ века // Вестн. НГУ. Серия: История, филология. 2017. Т. 16, № 1: История. С. 93–101.
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2017. Том 16, № 1: История
дательных уставов Российской империи попадали все категории служебного персонала, непосредственно участвовавшие в процессе добычи золота: нарядчики, смотрители разрезов и золотопромывальных машин, штейгеры, начальники золотоносных участков, управляющие приисками, доверенные золотопромышленников и др. В статье пойдет речь именно о юридической ответственности этих категорий служащих.
Одна из важных обязанностей служебного персонала на золотых промыслах в Сибири заключалась во взятии на себя юридической ответственности за безопасное ведение горных работ. Горнопромышленникам, по правилам Горного устава, предписывалось доводить до сведения местного окружного горного инженера о назначении лиц, ответственных за безопасное ведение разработок, и сообщать об их заменах [ПСЗ-III, 1897. № 9347. С. 89]. Вступившие в указанную должность, а чаще всего ими оказывались представители среднего и низшего звена служебного персонала, давали подписку местному горному исправнику, что будут гарантами соблюдения правил безопасности при проведении работ по добыче золота. Подписка сразу же изымалась у служащего, и с тех пор он ее не видел. Можно привести в качестве наглядного примера следующую записку:
«Января 2 дня 1901 года, Я нижеподписавшийся нарядчик на Сергиевском золотопромышленном прииске, принадлежащем Устькаменогорскому купцу А. К. Некрасову, дал сию подписку на основании Инструкции по надзору за частною Горного промышленностью, утвержденной министерством Государственных имуществ 1 мая 1892 г. в том, что я обладаю в Горном искусстве познаниями, необходимыми при ведении горных работ; правила ведения таковых работ в видах их безопасности со всеми позднейшими дополнениями и узаконениями правительства, мне хорошо известны, и я их вполне знаю, а потому на все время моего служения на означенном прииске принимаю на себя полную ответственность при могущих произойти несчастных случаях от моего неисполнения на сей предмет общих законов о распоряжении Правительства, а также и за все другие нарушения установленных правил почему бы то ни было мною допущенные, причем за могущими в будущем происходить их изменениям и дополнениями я обязуюсь следить и принимать к руководству и немедленному исполнению, не имея права отговариваться незнанием таковых» (данную подписку подписали 11 чел.) 1.
В дальнейшем такая подписка могла использоваться против служащего на судебном разбирательстве по конкретному несчастному случаю на золотом прииске. Давший подписку о взятии на себя ответственности за безопасное ведение работ приисковый служащий нес и уголовную ответственность. По мнению горного инженера П. В. Грунвальда, произошедшие по вине служебного персонала золотопромышленных предприятий несчастные случаи попадали под ст. 1466, 1468 и 1494 Уложения о наказаниях Российской империи [1911. С. 4]. Преступления по этим статьям заключались в непреднамеренном нанесении кому-либо раны, увечья, других повреждений здоровью и убийстве. Виновный по этим статьям в худшем случае подвергался тюремному заключению от двух до четырех месяцев или аресту от трех суток до трех месяцев, а в лучшем случае мог отделаться строгим выговором в присутствии суда [Волков, 1914. С. 811–814, 843].
В среде горно-промышленных деятелей в дореволюционное время шла дискуссия о целесообразности подачи подобных документов. Многие считали, что в таких документах нет никакой необходимости и что они носят исключительно формальный характер. Так, горный инженер А. П. Кеппен писал по этому поводу, что «нельзя взваливать на одно какое-либо лицо ответственность за всех служащих на руднике, заводе или фабрике; это тем более необходимо, чтобы все подобные служащие, коим поручается надзор за производством или за рабочими, знали, что за всякое неправильное действие, могущее повлечь за собою нанесение вреда рабочему, они должны [подлежать только уголовной ответственности, а гражданская ответственность будет распространяться на предпринимателей за всех служащих]» [1884. С. 138]. Далее горный инженер справедливо отмечал, что нет разницы, произошел ли какой-либо несчастный случай по вине несоответствующего распоряжения служащего, или же вследствие неприятия должных мер для предотвращения несчастья. Все равно служащий будет виновен, даже если суд освободит его от уголовной ответственности [Там же. С. 139].
Согласно ст. 29 «Инструкции по горному надзору», на предприятиях должны были быть лица, обязанные знать правила ведения горных работ, а также были те, кто должен еще обладать доверенностью от промышленника, дававшей им право самим принимать меры по безопасности работ на управляемых ими промыслах [Устав..., 1903. С. 333]. Смотрители горных работ относились к первой категории перечисленных лиц. Горный инженер П. В. Грунвальд указывал по этому поводу, что подписки о «полной» ответственности за горные работы юридически несостоятельны и не могут быть основанием для обвинений [1911. С. 12]. Наличие таких подписок обуславливалось, прежде всего, желанием перенести ответственность с высших лиц администрации на нижестоящих лиц в служебной иерархии. Случалось, что в качестве таких лиц на золотых промыслах в Сибири выступали несовершеннолетние лица без всякого образования, которые в силу своего возраста не могли быть юридически ответственными перед законом [Обручев, 1961. С. 547].
Нередко ответственность за безопасное ведение работ на золотопромышленных предприятиях брали на себя руководители этих предприятий. Так, при проведенном нами подсчете видно, что в Томском горном округе на рубеже XIX–XX вв. от общего числа служебного персонала, давших подписки о взятии на себя ответственности за безопасное ведение работ, 13 % составляли управляющие и заведующие золотыми приисками 2.
По мнению П. В. Грунвальда, взятие на себя управляющими и заведующими золотопромышленными предприятиями ответственности за безопасное ведение работ еще не служило залогом соблюдения всех правил безопасности ведения работ. Он считал, что на должности ответственных за проведение работ лиц следует ставить горных инжене- ров, как людей, знакомых с ведением горных разработок, что наблюдалось на некоторых приисках «Ленского золотопромышленного товарищества», «где инженеры заведуют и горными работами, и приисковым управлением» [1911. С. 32].
Служащим золотопромышленных предприятий часто ставили в вину происходившие с рабочими несчастные случаи, которые нередко заканчивались увечьями, а то и смертью рабочих [Грунвальд, 1911; Кеппен, 1884]. Причины таких инцидентов назывались самые разные: от нерадения служащих к выполнению своих прямых обязанностей до незнания самими служащими элементарных правил безопасности на производстве. Так ли это было на самом деле – приведем следующую статистику.
В 1904–1907 гг. на золотых промыслах, находившихся в ведении Томского горного управления, из 829 произошедших за эти годы несчастных случаев только 154 (18,5 %) произошли по вине управления золотопромышленных предприятий, в то время как вина рабочих была доказана в 330 случаях (40 %), и 345 происшествий произошли по случайности и по другим причинам [Статистика..., 1905. С. 56–62] 3. Тем самым, на наш взгляд, неоправданно искать главную причину происходивших с приисковыми рабочими несчастных случаев в действиях или бездействиях служебного персонала золотопромышленных предприятий.
При несчастных случаях с работниками золотопромышленных предприятий на администрации тех предприятий, где произошел несчастный случай, возлагалась обязанность регулярно отсылать отчеты окружному горному инженеру о состоянии пострадавшего работника. Так, в январе 1895 г. на Выше-Су-брасском прииске Алтайского золотопромышленного дела рабочий Л. Тихонов из-за обвала земли получил перелом средней части бедренной кости правой ноги и ушиб спины. Сразу же пострадавшего рабочего поместили в приисковую больницу. Управление золотопромышленного предприятия отправляло каждый месяц в канцелярию окружного ин- женера Томского горного округа сведения о состоянии его здоровья 4.
Местные горные управления по мере своих возможностей старались следить за происходившими во время производства несчастными случаями и требовали от приисковых управлений немедленно сообщать всю информацию о них, в том числе и о состоянии пострадавших, в противном случае грозя привлечь администрацию предприятий к юридической ответственности. В марте 1911 г. на Троицком прииске Товарищества Кузнецова в Алтайском горном округе во время работ травму получил рабочий Н. В. Бродяга. На запрос местного окружного горного инженера о состоянии его здоровья управление товарищества ответило только в ноябре 1912 г. В связи с задержкой ответа окружной инженер увидел здесь прямое нарушение правила извещения о несчастных случаях на производстве и потребовал от распорядителя всех дел товарищества С. Т. Артемьева дать Томскому горному управлению письменное разъяснение по этому вопросу. В своем ответе распорядитель делал упор на тот факт, что несчастный случай произошел еще до того, как он занял эту должность, в бытность другого распорядителя дел (З. Г. Байкалова), которого уже нет в живых, следовательно, виновным в этом происшествии он себя не считает. В итоге Присутствие по горно-заводским делам при Томском горном управлении постановило «за смертью обвиняемого З. Г. Байкалова, на основании пункта 1-го ст. 155 Уложения о наказаниях протокол этот [о произошедшем несчастном случае] оставить без последствия» 5.
Согласно ст. 722 Горного устава в редакции 1893 г., разработки золотых промыслов подразделялись по сложности и масштабу работ на два вида: значительные и незначительные. Право отнесения отдельных разработок к разряду значительных в зависимости от размеров производства, численности находившихся при разработке рабочих и прочим признакам принадлежало местному Горному управлению (касаемо Сибири – Томскому и Иркутскому), а где таковых не было учреждено – Горному Департаменту [Свод уста- вов..., 1900. С. 231]. На значительные разработки назначалось ответственное за ведение разработки лицо, обладавшее необходимыми познаниями в горном деле. К данной категории допускались следующие лица: обладатели диплома горного инженера, окончившие горное училище, либо имевшие на руках свидетельство об успешной сдаче испытаний для лиц, заведующих горными промыслами, выданное специальной комиссией, проводившей соответствующие испытания. К сдаче экзамена для лиц, заведующих горными промыслами, допускались проработавшие на рудниках или золотых приисках не менее трех лет или имевшие дипломы иностранных горных учебных заведений [ПСЗ-III, 1897. № 9347. С. 87–88].
Всего существовало пять программ, из которых разработок золотых месторождений касались только две: вторая – программа для лиц, заведующих золотыми промыслами; и третья – программа для лиц, заведующих разработкой жильных и штокообразных месторождений. Для успешной сдачи экзаменов по этим программам следовало обладать определенными познаниями в области горного дела. В спрашиваемый на экзамене по этим программам обязательный минимум входили следующие понятия: общее знание о горных породах и об образе нахождения полезных ископаемых, проведение самих горных и разведочных работ, крепление выработок, промывальные устройства и др. 6 Таким образом, к сдаче экзамена могли подойти только служащие, у кого за плечами накопился немалый опыт в приисковой деятельности.
Служебный персонал на золотопромышленных предприятиях выполнял роль проводника политики приискового управления и исполнял обязанности согласно распоряжениям своего начальства. Инструкции и другие письменные распоряжения приисковой администрации, которые служащим следовало исполнять, в зависимости от воли руководителей промышленного дела легко подвергались изменениям, что далее могло иметь негативные последствия для приисковых служащих при каком-либо несчастном случае и связанных с ними разных проверок и разбирательств, в том числе и судебных. Для предотвращения подобного рода инцидентов горный инженер Ф. Друцкий предлагал законодательным путем создать особые книги «распоряжений и требований», куда бы каждое ответственное за безопасность работ лицо записывало свои требования к высшему начальству, а также свои распоряжения подчиненным лицам на предмет соблюдения безопасности работ. Такого рода книги, по мнению автора проекта, следовало использовать в качестве оправдательного документа на суде [1916. С. 47].
В качестве еще одной меры защиты находящихся под следствием горных смотрителей Ф. Друцкий предлагал внести в законодательство статью о возмещении судебных расходов обвиняемых горных служащих. Если обвиняемое ответственное лицо будет признано виновным и понесет наказание, то в этом случае его семья должна получать хотя бы половину содержания из размера жалования осужденного за счет предприятия, на котором работал служащий [Там же. С. 48].
Вместе с тем существовали признаки личной ответственности служебного персонала за несчастные случаи, произошедшие на горно-промышленных предприятиях. К таким признакам горный инженер П. В. Грунвальд относил следующие случаи. Во-первых, исполнение распоряжений приискового технического надзора, являвшихся противозаконными и грозившими опасностью для жизни рабочих. Во-вторых, к этим признакам относилось выполнение работ в не удовлетворяющих условиям безопасности технических сооружениях, если смотритель не сделал высшему приисковому техническому надзору никаких замечаний насчет опасности работ при таких условиях. Третий случай вытекал из предыдущего: если служащий довел до сведения вышестоящего технического надзора информацию о неудовлетворении требований безопасности каких-либо технических сооружений, не получив от последнего никаких инструкций, или наоборот, получил прямое распоряжение продолжить проведение работ, следствием чего и явился несчастный случай с рабочими или служащими [1911. С. 17].
Также этот видный специалист перечислял признаки личной ответственности горных инженеров, заведующих горными работами, подразделяя их на две группы: в отношении открытых и подземных горных работ, заведуя устройством горно-технических сооружений. К первой группе П. В. Грунвальд относил 11 случаев, при которых горный инженер был лично ответственен за происшествия, как, к примеру, использование взрывчатых веществ плохого качества, если он не заменит служащих, небрежно относящихся к выполнению своих обязанностей, не будет лично контролировать соблюдение правил безопасности при подземных работах. Ко второй группе отнесено три случая: если из каких-либо своих выгод он допустит к работе сооружение, не отвечающее правилам безопасности; если не примет меры к немедленному исправлению неисправности технических сооружений, когда будет осведомлен о них; если при втором случае исправление технического сооружения выходит за рамки его полномочий, не сообщит приисковому управлению о необходимости исправления, а до этого времени не остановит деятельность неисправного сооружения [Там же. С. 27–29].
В конце XIX в. в золотопромышленном деле в Сибири начали применяться новые способы добычи благородного металла, что было обусловлено механизацией производства отрасли в целом. В частности, активно начали использоваться динамитные патроны для дробления валунов земли. На служебный персонал теперь возлагалась еще одна очень важная ответственность – выдача и правильное использование динамита. Как гласили «Временные правила об употреблении взрывчатых материалов при горных работах» от 2 мая 1887 г., выдачей взрывчатых веществ имел право распоряжаться исключительно штейгер или другой технический надсмотрщик. Взрывчатые материалы могли выдаваться на руки только специально для этой цели назначенным лицам [Спутник золотопромышленника..., 1901. С. 298]. Заведование самим процессом взрывных работ входило в обязанность особых категорий служебного персонала, обладавших специфическими знаниями, такими, как скорость горения употребляемого фитиля, знавших основные свойства употребляемых взрывчатых веществ и т. п. [Там же. С. 303].
Следовательно, приисковые служащие несли юридическую ответственность за неправильное использование взрывчатых веществ и за несчастные случаи, происходящие из-за этого. В качестве примера можно привести произошедший в 1898 г. случай на Нижнем прииске «Ленского золотопромышленного товарищества», когда некий служащий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, закладывал куда попало динамитные патроны. Рабочие во время работ постоянно натыкались на них. В результате только за одну неделю в больнице оказались с различными повреждениями девять человек. После этого происшествия служащего уволили [Коренев, 1904. С. 27].
Нередко служащие сами становились жертвами по причине незнания или халатного отношения к правилам использования динамита. Так, на Козьмо-Демьяновском золотом прииске в Енисейской тайге в 1888 г. служащий Петров при проведении взрывных работ лишился зрения, а служащий Давыдов от полученных ранений вскоре скончался (Сибирский вестник. 1889. № 11. С. 3; № 86. С. 2) 7. Халатность служащих при подрывных работах могла иногда доходить до абсурда, правда, с печальным финалом: один служащий «Компании промышленности в разных местах Восточной Сибири» во время закладывания динамитных патронов взял в рот динамитный патрон и поджег шнур. Как позже констатировал врач, «от головы после взрыва ничего не осталось» [Там же. С. 27].
Вопрос о необходимости увеличения числа квалифицированных специалистов горного дела среди управляющих и служащих рангом ниже на золотопромышленных предприятиях, в том числе и для предотвращения количества несчастных случаев на производстве, часто поднимался в научной литературе дореволюционной России. Горный инженер А. П. Кеппен в 1890 г. выдвинул проект закона, где, в частности, предлагались следующие меры. Во-первых, управляющими и заведующими на горных предприятиях могут быть только лица, получившие в России звание горного инженера. Во-вторых, на средние служебные должности могут претендовать люди, окончившие горные училища в России или получившие достаточную практическую подготовку. В-третьих, перечисленные лица должны обладать полной свободой действий в установлении мер по безопасности работ на предприятиях, где они работают. И последнее: окружной инженер горного округа может потребовать немедленного удаления заведующего производством технических работ, если он не соответствует перечисленным требованиям, а также остановить производство до назначения на этот пост соответствующего своей должности лица [1901. С. 13].
Известный деятель в золотопромышленном и деловом мире дореволюционной России горный инженер Л. Ф. Грауман на первом Всероссийском съезде золото- и платинопро-мышленников, прошедшем в 1907 г., в одном из своих выступлений проводил мысль, что необходимость увеличения горно-технических школ, выпускающих грамотных и технически подготовленных служащих-техников, будет способствовать сокращению числа несчастных случаев на производстве [Первый Всероссийский съезд..., 1909. С. 87]. Еще раньше мысль о необходимости знания техники безопасности служебным персоналом высказывал А. П. Кеппен, говоря, что всякому технику приходится сталкиваться во время производства с проблемами контроля над техникой безопасности [1893. С. 4].
Таким образом, подытоживая сказанное, можно прийти к следующим выводам. В связи с ростом механизации производства и развитием рабочего законодательства на служебный персонал золотопромышленных предприятий налагалось большое количество случаев юридической ответственности за выполнение своих прямых служебных обязанностей. Как правило, безопасность при проведении всех работ, а значит, ответственность перед законом брали на себя служащие среднего и низшего ранга (штейгеры, смотрители горных работ, нарядчики и пр.), в то время как число управляющих предприятиями и горных инженеров, взявших на себя ответственность за проведение работ, было незначительным. При этом следует отметить, что подавляющая часть приисковых служащих не обладала достаточными знаниями горного и других видов законодательства и представляла собой так называемых «практиков», имевших за своими плечами немалый трудовой стаж в золотопромышленном деле, но без необходимого технического образования. Незнание и несоблюдение элементарных норм безопасности нередко являлись причинами несчастных случаев в процессе золотодобычи.
Однако нельзя утверждать, что в подавляющем количестве несчастных случаев на золотых промыслах виноваты были именно приисковые служащие, приведенная нами статистика говорит об обратном. Нельзя не сказать и о том, что в рассматриваемое время отсутствовали специальные законы, защищающие интересы служебного персонала в случае судебного разбирательства по какому-либо происшествию. Тем самым, что часто отмечалось дореволюционными авторами, приисковые служащие перед лицом Фемиды представлялись практически беззащитными. При этом следует отметить, что горные инженеры, как специалисты различных сторон процесса золотодобычи, выступали с инициативой о принятии мер с целью поднятия правового положения служебного персонала, однако все эти предложения так и не были реализованы.
Список литературы Юридическая ответственность служебного персонала золотопромышленных предприятий Сибири за нарушение законодательных норм в конце XIX - начале XX века
- Грунвальд П. В. Об уголовной ответственности за несчастные случаи с рабочими и служащими на золотых промыслах. СПб., 1911. 32 с.
- Друцкий Ф. Уголовная ответственность горных техников // Известия общества штейгеров. 1916. № 2. С. 43-50.
- Кеппен А. П. К вопросу об ответственности горнопромышленников и горнозаводчиков за смерть и увечья, причиненные при эксплуатации рудников и заводов // Горный журнал. 1884. № 4. С. 108-155.
- Кеппен А. П. О необходимости установления научного ценза для лиц, занимающих ответственные должности на фабричных и горнопромышленных предприятиях. СПб., 1901. 16 с.
- Кеппен А. П. О страховании рабочих от несчастных случаев. О предупреждении несчастных случаев на заводах и рудниках. СПб.: Тип. С. Корнатовского и В. Войцицкого, 1893. 43 с.
- Коренев Е. Н. Очерк санитарно-экономического положения рабочих на золотых промыслах Витимско-Олекминской системы Якутской области. СПб.: Тип. министерства путей сообщ., 1904. 262 с.
- Обручев В. А. О золотом деле в Восточной Сибири // Обручев В. А. Избр. труды. М., 1961. Т. 3. С. 546-548.
- Первый Всероссийский съезд золото- и платинопромышленников. СПб.: Типолит. «Якорь», 1909. Т. 4. 231 с.
- Спутник золотопромышленника. Томск: Тип. П. И. Макушина, 1901. 356 с.