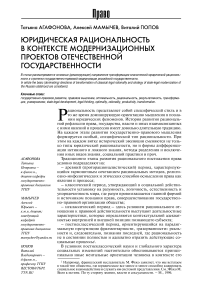Юридическая рациональность в контексте модернизационных проектов отечественной государственности
Автор: Агафонова Татьяна Петровна, Мамычев Алексей Юрьевич, Попов Виталий Владимирович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Право
Статья в выпуске: 4, 2010 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются основные (доминирующие) направления трансформации классической юридической рациональности и стратегии государственно-правовой модернизации российской государственности.
Государственно-правовое развитие, правовое мышление, оптимальность, рациональность, результативность, трансформация, универсализм
Короткий адрес: https://sciup.org/170165291
IDR: 170165291
Текст научной статьи Юридическая рациональность в контексте модернизационных проектов отечественной государственности
ПОПОВ Виталий
Р ациональность представляет собой специфический стиль и в то же время доминирующую ориентацию мышления в познании юридических феноменов. История развития рациональной рефлексии права, государства, власти и иных взаимосвязанных с ними явлений и процессов имеет довольно длительную традицию. На каждом этапе развития государственно-правового мышления формируется особый, специфический тип рациональности. При этом на каждом витке исторической эволюции сменяются не только типы юридической рациональности, но и формы дифференциации истинного и ложного знания, методы разделения и исключения иных видов знания, социальной практики и проч.
Традиционно этапы развития рационального постижения права условно подразделяют на:
– древний (проторационалистический) период, характеризующийся гармоничным сочетанием рациональных методов, религиозно-мифологических и этических способов осмысления права как явления и процесса;
– классический период, утверждающий в социальной действительности установку на разумность, логичность, естественность и упорядоченность мира, где разум провозглашается главной формой и источником познания права, совершенствования государственно-правовой организации общества;
– неклассический период – здесь условием рационального отношения к правовой действительности выступают деятельностные характеристики, которые определяются контекстуальной адекватностью внутренней и внешней позиции познающего субъекта;
– постнеклассический период, ориентирующийся на парадиг-мальную презумпцию фрагментарности, «разорванности» реальности и, следовательно, познания последней, где рациональность не в состоянии полностью и адекватно отразить действующие социальные процессы1.
В условиях постнеклассической науки и глобального характера социальных изменений настоятельно обосновываются принципиально иные ментальные ориентации человека в контексте его жизнедеятельностной системы. При этом тематизация рациональности в различных формах поведения и действия, как и в стремлении к соучастию в сотворении новых смыслов, становится одной из главных в духовной жизни человека. Соответственно, под влиянием постнеклассического типа рациональности меняются методологические ориентации и предпочтения в познании права и взаимосвязанных с ним явлений и процессов, сам стиль понимания права, где последнее анализируется в качестве многогранного и системного социального феномена, который невозможно свести к определенной конкретной стороне1.
Представители юридической науки все чаще обращают внимание на кризис традиционной идеи рациональности, отмечают утрату четких критериев рационального познания правовых феноменов. Так, все чаще высказываются «исследовательские претензии» к амбициозной убежденности правовой науки «в чистом рационализме своих категорий и понятий», которая в реальной жизни «постоянно сталкивается с неизвестно откуда возникающими феноменами иррационального и стихийного… отворачиваясь от всех необъяснимых явлений и факторов, поскольку вмешательство иррационального угрожает разрушить всю выстроенную ими рационалистическую систему знания»2. При этом указывается на то, что в течение многих веков политическая и правовая наука, знание о власти и законе питались из глубоких источников обычаев и традиций, религиозных представлений и коллективного бессознательного, а представления, образы, архетипические структуры и коды правокультурной среды обусловливали содержание и понимание юридико-политических дефиниций, образовывали грандиозный комплекс неформализованного знания.
В том же духе рассуждает и Г.В. Мальцев. В недавно вышедшем фундаментальном труде, посвященном социальным основаниям права, он отмечает, что «автоном- ность права как регулирующей системы преувеличивали до того, что право объясняли “из права”, задачи юридического регулирования выводили из потребностей самой правовой системы. Следствиями подобной аберрации представлений являются, с одной стороны, фетишизация юридических средств, максимализм ожиданий и надежд на право как источник совершенного порядка, а с другой стороны – правовой нигилизм, возникающий чаще всего в качестве реакции на неоправданные ожидания, обескураживающие последствия завышенных надежд и просто на наблюдаемые факты явного бессилия закона в случаях, где все уже “организовано” и “урегулировано” другими факторами, оказавшимися здесь более сильными, чем право»3.
Таким образом, современный тип юридической рациональности в настоящее время испытывает серьезное воздействие со стороны различных постнеклассических направлений и подходов. Возникают различные типы исследовательских позиций трансформации традиционных критериев рациональности и практических направлений переустройства социальной реальности.
С одной стороны, проблематика постнеклассического типа рациональности и модернизации в соответствии с ним действующей социально-правовой реальности активизировалась экспансией идеалов европейского типа рациональности. Так, например, основной программой правовых и политических учений становится объяснение и оправдание универсальных человеческих законов, связанных с прогрессом правового государства и гражданского общества. То же можно смело отнести и к развитию социалистических и анархических учений века, представляющих также универсальные программы социальной организации. При этом данный тип рациональности отодвигает духовно-нравственную проблематику общественной организации и социального единства от правотворческого процесса и государственного строительства.
Общественное структурирование и нормирование перестает быть гармоничным и целостным, поскольку переформатируется исключительно на формальные рамки и абстрактные нормы, предельно юридизировав и политизировав социальное взаимодействие. Для доминирующего стиля мышления главным становится не внутреннее содержание жизнедеятельности человека и общества, а его формальная структурированность и господство идео-кратических факторов (идей формального равенства, свободы, справедливости и пр.). В рамках данного постнекласическо-го типа рациональности в духовно-нравственных проблематиках правового бытия трактуются в технологическом контексте. Иными словами, здесь господствует целесообразность и оценка всякого рода духовных интенций с точки зрения их результативности.
Другой вектор развития постнеклассической рациональности связан с плюрализмом культурных форм государственно-правовой организации, которые обладают с этих позиций большей степенью результативности (например, в плане обеспечения стабильности и воспроизводства правового порядка), чем универсализированные правовые ценности и абстрактные правовые идеалы. При этом правокультурные закономерности развития, архетипические доминанты преемственного воспроизводства правовой культуры общества, а также духовно-нравственные и иные источники государственно-правовой организации трактуются в качестве реально действующих организующих и регулирующих факторов. Именно последние обусловливают движение различных социально-политических сил; развитие политико-правового мировоззрения; становление юридического быта и стиля понимания права, порядка, справедливости; формирование и развитие публично-правовых институций, режимность их взаимодействия. При этом данные факторы и представления являются по своей сути безличными, надындивидуальными и в то же время переживаемыми и проживаемыми всеми членами исторически сложившейся общественной системы.
С этих позиций трансформация российской государственности, равно как и правовой культуры общества, имеет свою специфику и закономерности. Несмотря на все катаклизмы и исторические повороты, эволюция правовой мыследеятельности протекает в соответствии с собственной «матрицей» развития и особенностями отечественной правокультурной модели, поддерживаемой неосознанными культурными кодами (архетипами), определяя тем самым отношение личности к праву и иным явлениям социально-юридической действительности, поведенческо-правовую и психолого-правовую самореализацию индивида1.
Справедливо в этом плане отмечает В.Н. Синюков, что российская правовая система «нуждается в системной идентификации с отечественной духовной культурой, сопряжении со всем контекстом жизнедеятельности российского общества», необходима в этой связи, по мнению автора, «актуализация культурноисторической специфики отечественного государства и права, которая как раз и недооценивается в практике современных преобразований»2. Сегодня востребовано осмысление всего юридического бытия общества через призму единства, целостности правового развития России. При этом следует интерпретировать все исторические повороты и трансформации политико-правовой материи в качестве составных частей исторически и логически цельной, типологически самостоятельной государственно-юридической системы как в институциональном, так и в духовно-культурном смысле слова.
Конечно, это не означает, что юридико-политическая жизнь общества не развивается; напротив, она находится в постоянном движении, однако этот процесс развития имеет свои социокультурные параметры и тренды, в нем возникают и случайности, деформации в том числе. Многие современные исследователи согласны с тем фактом, что именно в ценностной, духовно-нравственной сфере, прежде всего, кроется причина всех неудач трансформации политико-правовой жизни российского общества. В этом плане следует учитывать, что концепция трансформации правовой упорядоченности российского общества должна базироваться на принципиально отличных от западноевропейских аксиологических и онтологических основах. Если же осуществляемая трансформация приводит к нарушению гармоничного развития социальных отношений и соответствия между ценностной, предметной и смысловой составляющей социальной жизнедеятельности субъектов, а также нарушает правокультурную и правоментальную преемственность, то подобные процессы (трансформации), какие бы благие цели не стояли перед ними, будут иметь для общества ущербный, деструктивный характер. Изменение социально-правовой упорядоченности будет успешным «лишь в том случае, если в самой культуре будет выработана логика изменений, позволяющая воспроизводственному процессу воплощать такую программу, которая была бы нацелена на формирование социокультурных отношений, не переходящих границы необратимости», социокультурной и духовно-нравственной обусловлен-ности1.
При этом в юридическом развитии существенную роль играет фактор преемственности, который отражает способность правовой упорядоченности вопреки различного рода негативным, а нередко и деструктивным внешним и внутренним импульсам, обеспечивать саму возможность существования социума. В этом контексте преемственность является единственной возможностью, способной противостоять энтропийному разрушению единства правовой культуры и социальных отношений. Очевидно, что каждая правовая культура, конкретный государственно-правовой строй в процессе развития накапливают сложную систему ценностей, обеспечивающую стабильность даже в периоды радикальных трансформаций.
Кроме того, формирование оптимальной модели функционирования государства и права, их развитие и совершенствование зависит в конечном итоге от того, насколько данная национальная модель будет приспособлена к требованиям современных вызовов и условий, относительно открыта общемировым перспективным инновациям, но в то же время черпать свою идентичность («национальную самость») и стабильность в отечественной государственно-правовой традиции. В силу этого одной из приоритетных задач современной России является задача сохранения своих национальных доминант (культурных кодов) политико-правового развития, защиты своих национальных интересов, восстановления и воспроизводства идентичности нации, сопровождающихся необходимостью создания адекватной последним общенациональной идеологии и реализации соответствующей правовой политики.
Восприятие нового политико-правового или институционального опыта, получаемого нацией в те или иные переходные (трансформационные) периоды, осуществляется сквозь призму преемственно-воспроизводимых эмоционально-психологических готовностей и императивов (Г.Д. Гурвич, Л.И. Петражицкий), которые адаптируются и применяются согласно сложившемуся стилю правового мышления, воспроизводятся в практике (в повседневном правовом поведении граждан) в соответствии с базовыми формами, режимами и моделями социальноправового взаимодействия. Поэтому существующую правовую реальность, более того, правовую культуру общества нельзя рассматривать как результат только рационально-волевых усилий, причем какого-то одного поколения. Она формируется и развивается вместе с формированием и развитием общества, имеет схожие закономерности, принципы и специфические черты.
В свете сказанного можно констатировать, что современный проект обновления отечественной правовой упорядоченности общественных отношений должен быть основан на правокультурной преемственности и этнополитической адаптации властно-правовых институтов и структур. Причем преемственность не следует понимать как реконструкцию и последующее копирование конкретного государственно-правового уклада, сформированного и действующего в определенный исторический период, скорее, она должна мыслиться как сохранение национальных достижений в сфере политико-правовой организации, самобытных способов и форм властно-правовой организации социума, учитывать позитивный юридико-политический опыт на всех этапах национальнополитической эволюции отечественной государственности, в т.ч. и достижения советской цивилизации2.