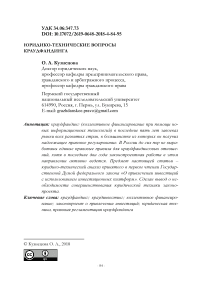Юридико-технические вопросы краудфандинга
Автор: Кузнецова О.А.
Журнал: Ex jure @ex-jure
Рубрика: Гражданское, семейное и предпринимательское право
Статья в выпуске: 4, 2018 года.
Бесплатный доступ
Краудфандинг (коллективное финансирование при помощи новых информационных технологий) в последние пять лет завоевал рынки всех развитых стран, в большинстве из которых он получил надлежащее правовое регулирование. В России до сих пор не выработаны единые правовые правила для краудфандинговых отношений, хотя в последние два года законопроектная работа в этом направлении активно ведется. Предмет настоящей статьи -юридико-технический анализ принятого в первом чтении Государственной Думой федерального закона «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ». Сделан вывод о необходимости совершенствования юридической техники законопроекта.
Краудфандинг, краудинвестинг, коллективное финансирование, законопроект о привлечении инвестиций, юридическая техника, правовая регламентация краудфандинга
Короткий адрес: https://sciup.org/147226682
IDR: 147226682 | УДК: 34.06:347.73 | DOI: 10.17072/2619-0648-2018-4-84-95
Текст научной статьи Юридико-технические вопросы краудфандинга
З арождение истории правовой регламентации краудфандинга в России. В 2015 г. Институт развития Интернета обозначил перед Президентом РФ задачу легализации краудфандинговых отношений. Изначально планировались изменения в закон «Об инвестиционном товариществе», допускающие возможность физическим лицам инвестировать в стартапы. Однако впоследствии было принято решение о создании самостоятельного закона в этой сфере.
Начиная с 2015г. Банк России в содружестве с краудфандинговыми площадками, добровольно предоставляющими отчетность, осуществляет мониторинг рынка краудфандинга, объем которого в 2017 г. составил 11,2 млрд руб. (для сравнения в 2016 – 6,2 млрд рублей), в 2015 – 1,5 млрд руб.)1. Уже известны и очень успешные российские проекты, реализованные через краудфандинг2.
Большинство действующих нормативных актов, содержащих упоминание о краудфандинге, носят программный характер, фиксируют необходимость правовой регламентации этого финансового механизма.
В 2016 г. Правительство РФ в Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 г. впервые обратило внимание на необходимость регулирования краудфандинговых отношений: «Альтернативный источник финансирования проектов субъектов малого и среднего предпринимательства на ранних стадиях развития (в первую очередь высокотехнологичных компаний) – коллективное финансирование (краудфандинг и краудинвестинг). В рамках реализации Стратегии будут предложены решения, связанные с развитием указанных источников финансирования проектов»3.
В Стратегии повышения финансовой доступности в Российской Федерации на период 2018–2020 годов, подготовленной ЦБ РФ, одним из приоритетных направлений деятельности в этой сфере названо совершенствование законодательства на финансовом рынке для повышения доступа малых и средних предприятий к финансированию, в том числе за счет использования альтернативных форм привлечения капитала (краудфандинг и т.д.), при этом замечено, что «краудфандинг потенциально позволяет упростить доступ субъектов МСП к капиталу, однако его преимущества и риски пока не полностью проанализированы»4.
В Концепции развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма краудфандинг называется в числе рисков совершения операций (сделок), связанных с финансированием терроризма5.
Из федеральных органов исполнительной власти лишь Федеральная налоговая служба высказалась по поводу коллективного финансирования, отвечая на вопрос о налогообложении при безвозмездном получении имущества (денежных средств) посредством краудфандинга6.
Краудфандинг или, другими словами, народное финансирование с использованием новых цифровых информационных технологий в течение последних 5–6 лет в России существует и развивается как определенная система экономических отношений. Справочно заметим, что краудфандинг бывает безвозмездным и возмездным. Последний в экономике получил название краудинвестинг, который в зависимости от модели «возврата инвестиции» разделяют на «роялти» (получение части дохода от реализации проекта), кра-удлендинг (получение дохода от выдачи займов) и акционерный краудфандинг (приобретение взамен инвестирования доли в компании, обычно путем приобретение акций).
Единая правовая форма краудфандинговых отношений в нашей стране пока отсутствует: «Анализ российского законодательства показывает, что прямых запретов на привлечение денег через краудинвестинговые платформы нет, но не существует и норм, обеспечивающих облегченные схемы дистанционного инвестирования через Интернет»7.
20 марта 2018 г. в Государственную Думу ФС РФ был внесен проект федерального закона № 419090-7 «Об альтернативных способах привлечения инвестиций (краудфандинге)».
Однако спустя почти месяц – 16 апреля 2018г. законопроект был внесен повторно с новым наименованием «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ».
Законопроект в новой редакции был принят в первом чтении 22 мая 2018 г. На пленарном заседании Государственной Думы ФС РФ проект закона представлял председатель комитета Госдумы по финансовому рынку А. Аксаков. Комментируя необходимость его принятия, он отметил, что законодатель должен регламентировать уже возникшие краудфандинговые отношения для защиты прежде всего неквалифицированных инвесторов: «Это уже происходит, мы просто устанавливаем нормы, которые регулируют этот процесс. Уже сейчас инвестируют граждане в разные проекты, увидев хорошую рекламу, вкладывают свои деньги и иногда что-то зарабатывают, но за- частую теряют. В том числе потому, что этот процесс не урегулирован зако-нодательно»8.
С учетом поступивших на законопроект замечаний и заключений очевидно, что текст проекта ещё претерпит изменения как содержательного, так формально-юридического характера. Хотим обратить внимание на ряд юридико-технических вопросов, возникающих при анализе принятого в первом чтении законопроекта.
Юридико-технический анализ законопроекта «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ». Важно отметить, что законопроект в новой редакции претерпел определенные, а в отдельных статьях – существенные корректировки.
Прежде всего, изменение названия законопроекта нам кажется удачным. Во-первых, сам термин «альтернативные способы финансирования» виделся крайне не определенным по своему содержанию: альтернативные по отношению к каким способам финансирования? Устоявшегося представления о традиционных способах финансирования не сложилось9. Например, банковское кредитование, скорее всего, можно признать классическим способом финансирования, но относятся ли к такой же классике факторинг, лизинг, бизнес-ангелы? Во-вторых, краудфандинг не является единственным альтернативным способом финансирования. Например, Правительство РФ10 относит к альтернативным источникам финансирования малого и среднего бизнеса биржи с обращением акционерного или долгового капитала. В-третьих, закон охватывает только возмездный краудфандинг и в нем только краудлендинг и акционерный краудфандинг. Кроме того, в первоначальном тексте законопроекта краудфандинг приравнивался к термину «розничное финансирование», который также вызывал большие вопросы и из нового текста законопроекта обоснованно был исключен.
Не вполне понятно исключение из новой редакции законопроекта ч. 2 ст. 1, устанавливающей, что закон не распространяется на безвозмездный краудфандинг. На наш взгляд, предлагаемая норма верно описывала предмет регулирования закона.
Участники инвестиционной платформы (донор и реципиент) получили легальные названия: «инвестор» и «лицо, привлекающее инвестиции». В отличие от первоначального текста проекта закона лицом, привлекающим
_________________ ГРАЖДАНСКОЕ, СЕМЕЙНОЕ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО инвестиции, может быть только коммерческая организация и индивидуальный предприниматель. Однако ст. 1 новой редакции проекта, очерчивающая субъектов действия закона, по прежнему предусматривает, что «закон регулирует отношения по привлечению инвестиций юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями посредством инвестиционных платформ, а также определяет правовые основы деятельности операторов инвестиционных платформ по организации привлечения инвестиций от участников инвестиционных платформ».
В этой же статье не очень удачным видится словосочетание «по организации привлечения инвестиций от участников инвестиционных платформ », так как участниками являются и инвесторы и лица, привлекающие инвестиции, а инвестиции привлекаются только от инвесторов. В данном случае было бы достаточным указать: «деятельности… по организации привлечения инвестиций».
Статья 3 законопроекта называется «Услуги по организации привлечения инвестиций», при этом закон использует и синонимичное выражение «деятельность по организации привлечения инвестиций». Такое дублирование видится нецелесообразным. Как видно из текста ст. 3 проекта, самостоятельного вида такой услуги, как «организация привлечения инвестиций», не существует, она состоит из двух самостоятельных услуг и соответствующих самостоятельных договорных конструкций – услуг по привлечению инвестиций и услуг по содействию в инвестировании. На наш взгляд, именно деятельность (а не услуга) по организации инвестирования представляет собой оказание двух видов указанных услуг. Кроме того, в ст. 3 речь идет именно об указанных договорах, а не о деятельности (услугах) по организации привлечения инвестирования, возможно, целесообразнее назвать её «Договоры, опосредующие деятельность по организации привлечения инвестирования». Сама деятельность по организации привлечения инвестиций описана в главе 3 закона.
В п. 2 ст. 3 проекта предлагаются нормы-дефиниции договора об оказании услуг по привлечению инвестиций и договора об оказании услуг по содействию в инвестировании. Из последнего абзаца п. 2 ст. 3 проекты мы понимаем, что эти договоры по общему правилу – возмездны (если это предусмотрено правилами инвестиционной платформы). Однако перед нами две дефиниции гражданско-правовых договоров, в которых традиционно называются обязанности сторон. С этой точки зрения конструкции указанных договоров в первоначальном законопроекте, предусматривающие, что «другая сторона обязуется оплатить такие услуги», видятся более завершенными и соответствующими гражданско-правовой юридической технике.
Также отметим, что законодатель поддержал выводы ученых о самостоятельной правовой природе краудфандинговых договоров, отличной от купли-продажи, агентирования, простого товарищества, акционерного со-глашения11. До законопроекта считалось, что платформа работает со своими участниками на условиях непоименованного договора, допускаемого п. 2 ст. 421 ГК РФ, «предметом которого является предоставление им доступа к услугам и сервисам сайта, с элементами агентского соглашения в части аккумулирования на своих счетах собираемых для поддержки инвестиционного проекта денежных средств»12.
Важные изменения претерпела ст. 5 законопроекта, определяющая способы осуществления инвестиций посредством инвестиционной платформы и ограничения инвестирования. В частности, из способов инвестирования через краудинвестинг в новом проекте закона исключили приобретение доли участника в уставном капитале ООО, доли в складочном капитале хозяйственных товариществ или хозяйственных партнерств. И в отличие от первоначального проекта через краудинвестинг можно приобрести не любые ценные бумаги, а только размещаемые эмиссионные ценные бумаги, что следует признать обоснованным и, видимо, в большей степени соответствующим идее акционерного краудфандинга.
Помимо краудленинга (предоставление займов) и акционерного краудфандинга, инвестировать через инвестиционные площадки предполагается путем «приобретение имущественных прав путем приобретения токенов инвестиционного проекта, удостоверяющих такие права». Первоначальные проект содержал иную формулировку «приобретение токенов инвестиционного проекта». Понятие токена дано в законопроекте «О цифровых финансовых активах» как «цифровой финансовый актив, который выпускается юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем с целью привлечения финансирования и учитывается в реестре цифровых транзакций». Законопроект № 424632-7 «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации» вместо термина «токен» предлагает ввести категорию «цифровое право». И здесь есть очевидное не- соответствие между тремя законопроектами, которые по юридико-технической логике должны идти одним пакетом.
В любом случае конструкция «приобретение прав путем приобретения токенов» выглядит несколько перегруженной. Что же приобретается: имущественные права, токены, удостоверяющие имущественные права, или то и другое? Не отвечают на этот вопрос и авторы законопроекта, поскольку в п. 1 ст. 5 указывается, что осуществить инвестиции можно посредством «приобретения имущественных прав путем приобретения токенов инвестиционного проекта, удостоверяющих такие права», а в п. 4 этой же статьи - «инвестор может приобрести токены инвестиционного проекта, удостоверяющие следующие имущественные права». Понятно замешательство законодателей: ведь и токены и цифровые права - это определенные цифровые записи (цифровые коды и обозначения), пока достаточно трудно допустить в традиционную цивилистику конструкцию «приобретение цифровых записей». Однако по аналогии с бездокументарными ценными бумагами и эта трудность будет преодолена, что, конечно, не снимает законотворческого вопроса об унификации терминологии.
Новая редакция законопроекта устанавливает, что токены удостоверяют: права требования из договора займа, а также права требовать размещения ценных бумаг по определенной цене, требовать передачи вещи (вещей); право передачи исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности или прав использования результата интеллектуальной деятельности; право требовать выполнения работ и (или) оказания услуг.
Оператором инвестиционной платформы может быть только юридическое лицо в форме хозяйственного общества, зарегистрированное ЦБ РФ в реестре операторов инвестиционных платформ. Первоначальная редакция законопроекта предусматривала ряд ограничений в использовании термина «краудфандинг» в своем фирменном наименовании, но, поскольку законодатель решил в принципе отказаться от применения этого слова, в новой редакции данные нормы были исключены. Однако появилось важное правило об обязанности оператора инвестиционной платформы до заключения договора об оказании услуг по содействию в инвестировании «получить от инвестора физического лица подтверждение того, что он ознакомился с рисками, связанными с заключением договоров, на основании которых привлекаются инвестиции, осознает, что инвестиции, осуществляемые посредством инвестиционной платформы, являются высокорискованными и могут привести к по- тере всех инвестируемых денежных средств в полном объеме, и принимает такие риски». Это правило указывает на важный недостаток (некоторые эксперты считают, что он единственный) краудинвестинга – высокий уровень риска потери инвестируемых средств, которые не застрахованы по примеру банковских депозитов. Касательно этого правила законодателю следует уточнить, что эта обязанность возникает в отношении физических лиц, не осуществляющих предпринимательскую деятельность.
Сам механизм краудинвестинга предусмотрен в ст. 10 законопроекта, он основан на принципе «всё или ничего» (условный краудинвестинг): лицо, привлекающее инвестиции, делает предложение потенциальным инвесторам (существенные условия оферты – срок действия такого предложения и минимального объема привлекаемых денежных средств для достижения цели инвестиционного проекта), если объем в установленный срок не собран – средства возвращаются инвесторам. Экономике известен и другой вид краудинвестинга – безусловный, при котором реципиенту передается любая собранная сумма.
Юридико-техническое оформление данной статьи вызывает определенные замечания.
Прежде всего, в ч. 1 ст. 10 предусматривается, что «предложение лица, привлекающего инвестиции, о заключении договоров, на основании которых привлекаются инвестиции, может быть сделано только участникам инвестиционной платформы ...... Однако, согласно ст. 2 законопроекта, участники инвестиционной платформы – это инвесторы и лица, привлекающие инвестиции; очевидно, что такое предложение делается именно инвесторам, поэтому так и следует адресатов оферты назвать в законе.
Далее законопроект регламентирует: «В случае, если минимальный объем привлеченных средств не был собран в течение срока действия предложения, такое предложение должно быть отозвано и средства возвращены инвесторам». Здесь лингвистическая ошибка – не привлеченных, а привлекаемых средств, так как нельзя не собрать уже привлеченные средства. Кроме того, не вполне понятна обязанность отзыва предложения после истечения. В гражданском праве отзывается только действующая оферта. При имеющейся формулировке возникают вопросы и о последствиях нарушения обязанности отзыва: если оно не отозвано, будут ли возвращены средства инвесторов? Думается, законодатель отвечает на этот вопрос положительно, поэтому обязанность отзыва недействующей оферты представляется излишней.
Инвестор, принявший предложение лица, привлекающего инвестиции, вправе отозвать принятие указанного предложения и потребовать возврата своих денежных средств (не позднее установленных в законе сроков).
Важно и то, что на средства, возвращенные инвестору, в соответствии с ч. 2 и 3 ст. 10 законопроекта, проценты не начисляются.
Инвестиции осуществляются только безналичными денежными средствами, которые зачисляются на номинальный счет оператора инвестиционной платформы.
Правовое регулирование договора номинального счета предусмотрено в ГК РФ.
В п. 4 ст. 860.2 ГК РФ предусмотрено, что в случае, если на номинальном счете учитываются денежные средства нескольких бенефициаров, банк ведет учет денежных средств каждого бенефициара, за исключением случаев, когда в соответствии с законом или договором номинального счета обязанность по учету денежных средств каждого бенефициара возложена на владельца счета. Законопроект предусматривает возложение обязанности по учету денежных средств не на банк, а на оператора инвестиционной площадки, норма сформулирована как диспозитивная: «Учет денежных средств каждого участника инвестиционной платформы, находящихся на номинальном счете, осуществляется оператором инвестиционной платформы, если в соответствии с договором номинального счета обязанность по учету указанных денежных средств не возложена на кредитную организацию, в которой открыт этот счет».
Часть 8 ст. 10 законопроекта устанавливает, что «денежные средства участников инвестиционной платформы, предназначенные для инвестирования посредством инвестиционной платформы , не могут зачисляться на счета оператора инвестиционной платформы, на которых находятся его собственные денежные средства, за исключением выплаты вознаграждения оператору инвестиционной платформы или привлечения им инвестиций». Однако, согласно терминологии ст. 3 законопроекта и главы 39 ГК РФ, услугодатель получает за оказание услуг плату, а не выплату вознаграждения. Кроме того, денежные средства, предназначенные для инвестирования, – это средства инвестора, предоставляемые лицу, привлекающему инвестиции, тогда как на счет оператора могут зачисляться и средства, предназначенные для инвестора в качестве его дохода от инвестирования. Поэтому оборот « предназначенные для инвестирования посредством инвестиционной платформы» из ч. 8 ст. 10 законопроекта должен быть исключен.
В ст. 11, устанавливающей требования к лицам, привлекающим инвестиции, мы вновь видим, что «лицами, привлекающими инвестиции посредством инвестиционной платформы, могут являться юридические лица , созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, или индивидуальные предприниматели». Во-первых, понятие таких лиц уже дано в ст. 2 законопроекта, во-вторых, речь идет опять обо всех юридических лицах, тогда как в ст. 2 только о коммерческих организациях. Законодателю важно определиться по этому вопросу.
Часть 4 ст. 12 законопроекта устанавливает требования к составу информации об инвестиционных проектах (инвестиционный меморандум), в отношении которых осуществляется (осуществлялось) привлечение инвестиций посредством инвестиционной платформы, в том числе «4) наличие или отсутствие у инвестора преимущественного права приобретения акций (долей) в уставном (складочном) капитале хозяйственного общества и товарищества или хозяйственного партнерства, позволяющих сохранить размер принадлежащей инвестору доли в уставном (складочном) капитале при его увеличении». Вероятно, указанный пункт не согласован с тем, что в соответствие с новой редакцией проекта при помощи инвестиционной платформы не приобретаются доли участника в уставном капитале ООО, доли в складочном капитале хозяйственного товарищества или хозяйственного партнерства.
В заключение отметим, что законодателем проведена большая законопроектная работа по созданию юридической формы краудфандинговых отношений. Однако большой экономический потенциал коллективного финансирования и сопровождающие его риски нуждаются в тщательной правовой регламентации, не допускающей коллизий, неопределенностей и разночтений, что исключительно важно для судьбы будущего закона, особенно в части эффективности его действия.
Список литературы Юридико-технические вопросы краудфандинга
- Архипов Е. Понятие и правовая природа краудфандинга//Актуальные проблемы предпринимательского права/под ред. А. Е. Молотникова. М.: Стартап, 2015.
- Бикбов А. 5 историй успеха. Корпоративный краудфандинг//Расчет. 2014. № 1.
- Бычков А. И. Проведение расчетных операций: способы, специфика и риски. М.: Инфотропик Медиа, 2016.
- Васильева Е. В. Финансовые технологии и развитие малого и среднего предпринимательства//Мировая экономика: проблемы безопасности. 2018. № 1.
- Клинов А. О. Правовое регулирование краудфандинга в России и за рубежом//Закон. 2018. № 2.
- Котенко Д. А. Краудфандинг -инновационный инструмент инвестирования//Закон. 2014. № 5.