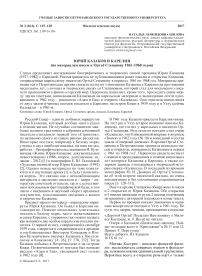Юрий Казаков и Карелия (по материалам писем к Ортьё Степанову 1961-1968 годов)
Автор: Шилова Наталья Леонидовна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 3 (164), 2017 года.
Бесплатный доступ
Статья продолжает исследование биографических и творческих связей прозаика Юрия Казакова (1927-1982) с Карелией. Рассматриваются не публиковавшиеся ранее письма и открытки Казакова, отправленные карельскому писателю Ортьё Степанову в период с 1961 по 1968 год. Материалы хранящегося в Петрозаводске архива свидетельствуют о внимании Казакова к Карелии на протяжении нескольких лет, о личных и творческих связях со Степановым, который стал для московского писателя проводником в финно-угорский мир. Переписка позволяет, кроме того, проследить связи между двумя текстами, написанными Казаковым на карельском материале и вышедшими почти одновременно в 1962 году - рассказом «Адам и Ева» и очерком «Калевала». Они отразили впечатления от двух малоизученных поездок писателя в Карелию: на остров Кижи в 1959 году и в Ухту (сейчас Калевала) - в 1961-м.
Юрий казаков, ортьё степанов, архив, письма, калевала, карелия
Короткий адрес: https://sciup.org/14751174
IDR: 14751174 | УДК: 821Л61Л.09-36199
Текст научной статьи Юрий Казаков и Карелия (по материалам писем к Ортьё Степанову 1961-1968 годов)
Русский Север – один из любимых маршрутов Юрия Казакова, который вообще много ездил в течение жизни. Не случайно составители наиболее полного трехтомного собрания сочинений писателя озаглавили первый том «Странник», по названию одного из самых ранних рассказов. Некоторые поездки, например к Белому морю, учтены в двух наиболее важных, на наш взгляд, работах – биографическом исследовании И. Кузьмичева «Жизнь Юрия Казакова: документальное повествование» (1986, второе, дополненное, издание – 2012) [5] и монографии Е. Ш. Галимовой «Художественный мир Юрия Казакова» (1992) [2]. Однако новые материалы по теме появляются и в настоящее время [1] и будут появляться впредь. Это связано как с неослабевающим интересом к наследию писателя и – шире – литературе советской оттепели, так и с естественным пополнением фактографической базы, в том числе с введением в научный оборот архивных документов, дополняющих сведения о жизни и творчестве Казакова.
Предмет нашего интереса – карельские маршруты Юрия Казакова. Он бывал в Карелии неоднократно. Помимо нескольких длительных поездок к Белому морю, часто захватывавших и север Карелии, с уверенностью можно назвать как минимум две особые карельские поездки писателя. О первой из них, совершенной в сентябре 1959 года, говорится в сохранившихся в архивах и опубликованных Виктором Конецким и Игорем Кузьмичевым письмах Казакова к Паустовскому и Конецкому1 [4: 26], [5: 278, 352]. Тогда Казаков побывал в Петрозаводске и на острове Кижи. По впечатлениям от поездки был написан рассказ «Адам и Ева», увидевший свет только в 1962 году [8].
В 1961 году Казаков приехал в Карелию вновь. На этот раз в Ухту (старое название поселка Калевала), где гостил у карельского писателя Ор-тьё Степанова. Результатом поездки стал очерк «Калевала», опубликованный впервые в журнале «Знамя» в 1962 году (№ 10) и вошедший в состав цикла «Северный дневник». В архиве Ортьё Степанова в Петрозаводске хранятся несколько писем и открыток, написанных Казаковым в период с 1961 по 1968 год2. Переписка свидетельствует о живом и продолжавшемся в течение нескольких лет интересе Казакова к Карелии, а также содержит данные, относящиеся к творческой истории очерка «Калевала». В последней по времени монографии Ю. И. Дюжева об Ортьё Степанове об этой встрече писателей cказано, но очень конспективно и без упоминания сохранившихся писем [3: 128–131].
Всего в архиве Степанова обнаружено 6 писем и 2 открытки от Юрия Казакова. Обе открытки и 4 письма написаны от руки, 2 письма отпечатаны на машинке с авторской подписью в конце текста.
Первое по времени письмо лаконично и написано вскоре после поездки в Ухту в 1961 году. По сути, это, скорее, записка, приложенная к посылке: «Дорогой Ортьё! Посылаю Вам книжку о Матиасе Кастрене, м. б. Вы её не читали.
Очерк о Калевале обязательно напишу. Пойдет он скорее всего в “Крестьянке” в № 11 или 12. Привет Т. Перттунен
Всего доброго. Ю. Казаков 16 IX 61 г»3.
Матиас Кастрен – шведско-финский филолог, исследователь северных языков и фольклора, основоположник сравнительной уралистики. Вероятнее всего, в открытке речь идет о только что вышедшей в Москве в 1961 году книге В. Б. Муравьева «Вехи забытых путей (Матиас Кастрен)» (Географгиз, серия «Замечательные географы и путешественники»). Интерес к Кастрену – свидетельство внимания Казакова в эти годы к карело-фискому культурному полю в целом. Например, в писавшемся и переписывавшемся в те же годы рассказе «Адам и Ева» появляется несколько локальных языковых и культурных реалий, хотя в рассказе, в отличие от очерка «Калевала», все детали поездки 1959 года подвергнуты поэтизации, обработке, топонимы сняты или изменены. И только карело-финские реалии позволяют легко догадаться о том, что это Карелия и Петрозаводск [8]. Интересно, что рассказ «Адам и Ева» появился в печати впервые в том же 1962 году, что и очерк «Калевала», только в другом, «толстом» журнале – «Москва» (№ 8). Скорее всего, работа над двумя текстами в 1961 году шла параллельно. Более того, погружение в сердце карело-финского мира в поездке в Калевалу 1961 года могло повлиять и на текст «Адама и Евы», а именно на введение черт, связанных с финно-угорским культурным полем. Так, в рассказе выразителен образ официантки Жанны Юоналайнен, говорящей с финским акцентом и использующей местную лексику: она называет озеро «ярви» (это слово неоднократно встречается и в «Калевале»). Рыбак в другом эпизоде использует слово «салма» («салми») – финское «залив»: «Как из салмы выйдешь, налево забирай, мимо маяка. Увидишь остров, к нему и правь»(I: 273). Это особенно заметно на фоне других очерков и рассказов о Кижах 1960– 1970-х годов, в которых авторы-современники Казакова легко обходятся без специфических карельских реалий или топонимов, сосредоточиваясь на более общем севернорусском кон-тексте4. К сожалению, нам неизвестно что-либо о черновых вариантах «Адама и Евы», если они вообще сохранились, так что окончательно подтвердить эту гипотезу пока не представляется возможным. Но в текстах рассказа и очерка есть и другие пересечения, в том числе на уровне примечательных словесных оборотов. Например, высаживаясь на острове, главный герой рассказа художник Агеев, осматриваясь, думает: «Ну, вот и конец света» (I: 267). Слова звучат в рассказе многозначно, в том смысле, что это и край света, и конец света одновременно. Библейские аллюзии заглавия и некоторые пространственные мотивы рассказа (действие на острове собрано во многом вокруг церкви, прототипом которой послужила церковь Преображения Господня) дополнительно акцентируют апокалиптическое значение оборота «конец света», а контекст путешествия – мотив «края света» или «края земли». В «Калевале», в эпизоде, где Казаков вспоминает о своей первой поездке на Север в середине 1950-х, есть похожее место, только в этом случае не свернутое, а представленное так, что обе формулы стоят рядом: «А противоположный берег губы был уж и совсем дик и пуст, а за ним лежали какие-то деревни, очень редкие, небольшие, и между этими деревнями простирались десятки километров пустынного берега, по которому мне надо было пройти… Что же это – конец света, край земли, всеми забытый? (курсив наш. – Н. Ш.)» (II: 136). Все это свидетельствует о связях, существовавших между двумя текстами о Карелии в сознании самого автора, в тот момент, когда над ними шла работа. Связь, таким образом, оказывается более разносторонней, чем просто тематическая, и реализуется также на формальном уровне.
Действительно, заметная особенность очерка «Калевала» среди других северных текстов Казакова – это погружение в финноязычный мир. Местный языковой колорит много раз подчеркнут в повествовании: «…дорога шла то в гору, то под гору, час проходил за часом, народ в автобусе менялся, говорили кругом уже по-фински, пахли все лесом, годами не снимаемой закоже-нелой одежей, мокрыми платками и фуражками, на полу поскрипывали уже пестери и корзины с морошкой, черникой…» (II: 134); «Не понимаю я по-фински, но слушаю жадно – такой это прекрасный, звучный язык, сдвоенные гласные и согласные…» (II: 136); «Он что-то говорит по-фински Татьяне Перттунен. Потом опять мне…» (II: 138); «И у Михеевой не говорят по-русски, и мне досадно, так хочется поговорить, расспросить, остается одно, пока они радуются, перебивают друг друга – смотреть» (II: 140) и т. д.
Упомянутая в записке «Т. Перттунен» – Татьяна Алексеевна Перттунен (1883–1963), знаменитая сказительница, исполнительница рун и карельских народных песен, жена правнука легендарного Архиппы Перттунена, от которого Леннрот записывал руны «Калевалы». В очерке Казаков неточно называет ее правнучкой руно-певца. Вместе с ней и с Ортьё Степановым Казаков едет на Ала-ярви в гости к другой сказительнице Марии Михеевой (1884–1969). Татьяне Перттунен посвящено больше всего внимания в очерке: «Восемьдесят лет этой Перттунен, даже, наверно, больше, она сказительница, и хоть лицо у нее, как у всех старух – и морщины там, рот запал, глаза повыцвели, – а все-таки присутствует в этом лице еще что-то: гордость ли, сознание ли собственного достоинства, или важности своей жизни, или известности, почета, каким она тут верно окружена <…> Она совсем не говорит по-русски, на меня не смотрит и ко мне не обращается, да и с Ортье говорит мало, больше раздумывает о чем-то. Живет она одна – сама косит, гребет сено, ловит рыбу, ездит на острова за ягодой и грибами – словом, делает всю необходимую тяжелую мужицкую работу, без которой тут не проживешь. Но ведь восемьдесят лет!» (II: 136–137).
Кульминационная часть «Калевалы» – эпизод, в котором старухи-сказительницы по приезде в священную рощу на мысу на отдыхе у костра поют руны. Пению Перттунен и здесь уделено больше всего внимания: «Старуха Перттунен наклоняет голову, мы с Ортье ложимся, растягиваемся на мху, и Ортье мигает мне: сейчас начнет!
Татьяна Перттунен говорит что-то вполголоса, и Ортье тотчас переводит мне:
– Про то, как Вяйнемейнен играл на кантеле из рыбьих костей…
И она запевает. Раздаются первые звуки ее невыразительного голоса, выговариваются торопливо первые слова, неустойчиво выпевается еще неуловимая на слух мелодия. Да! Она и не поет еще, а говорит речитативом, скоро несется, как ручей в лесу с его разнообразным, высоким и низким бульканьем.
Но лицо ее уже преобразилось – глаза сведены в одну точку, пальцы двигаются, скрючиваются и распускаются, голова вздрагивает и откидывается, глаза поднимаются на сосны, на даль озера, но тотчас опускаются. Иногда она повысит голос, нахмурит брови, вскрикнет грозное и поднимает руку, угрожая, но тут же и сникнет, забормочет, раскачиваясь, что-то жалобное.
Каикиппа ноуси кууломаа метсяста метсян еелаваа… Вот что приблизительно слышу я на свой русский слух. Ортье кое-как успевает шепотом переводить мне обрывки руны, и я чувствую, как мороз медленными волнами проходит у меня по спине, и дыхание стесняется» (II: 141–142).
О сказительницах Казаков не раз вспоминает в последующих письмах. Одно из них не датировано, конверт не сохранился, но по содержанию можно предположить, что написано оно в 1962 году. В письме идет речь о подготовке очерка к печати:
«Дорогой Ортье!
Жизнь наша идет по пословице: “Не так живи, как хочется…” И так вышло, что в прошлом году не сумел я написать про Т. А. Перттунен и про Вас и про Михееву. А теперь вот только засел за очерк, который выходит у меня похож на рассказ. Я его кончаю, через несколько дней будет готов. Отдам я его скорей всего в “Крестьянку” – там тираж побольше – или в “Советскую женщину”. Но там он когда-то выйдет, когда дойдет до Ухты и м. б. несколько экземпляров всего… Так что, когда кончу, я Вам пришлю один экземпляр – распорядитесь им по своему усмотрению. М. б. напечатаете в районной или переведете на финский – дело Ваше.
И еще просьба: если есть хорошие снимки у Вас или Т. Перттунен – озера или самой Перт-тунен или вообще ваших мест – немедленно шлите их мне по адресу: г. Таруса, Калужской обл.
Почта, до востребования Казакову Ю. П. Я их пошлю в тот журнал, где будет помещен очерк.
Передайте мой привет Т. А. Напишите, как вообще поживаете. Жду снимков!
С приветом Ю. Казаков».
В письме от 7 ноября 1962 года Казаков уже сообщал о выходе очерка в печати: «Насчет моего очерка м. б. вам будет интересно узнать, что через Агентство Печати Новости он был распространен за границей и печатался где-то в Скандинавии, в Канаде и т. д. – где есть финское народонаселение. Я было хотел этот очерк отдать в “Огонек” или “Крестьянку”, но тут вы виноваты. Я писал вам, просил фотографии, но так и не дождался.
Рад буду, если очерк передадут по радио, как вы писали – и не столько за себя рад, сколько за Т. Перттунен и М. Михееву и за вас, поскольку о вас всех идет там речь.
Может быть я что-нибудь напутал в очерке /в названиях или фактах/ – так уж вы не сердитесь на меня, это случается почти постоянно, когда в месте и среди людей, о которых пишешь, пробудешь всего несколько дней».
И снова 9 марта 1963 года: «Передайте Перт-тунен, что очерк о ней выходил в Финляндии, Норвегии, сейчас переводится в Швеции и еще на английский язык (журнал “Сов. литература” на английском языке). Я очень рад такому обороту дела, не зря ездил к вам в Ухту».
По письмам 1962–1963 годов видно, что не все в литературном сотрудничестве двух писателей складывалось идеально. Из письма 1962 года можно понять, что Ортьё Степанов рассчитывал получить помощь с переводом (вероятно, на русский язык) и публикацией одного из своих текстов. Скорее всего, речь шла о вышедшей в 1961 году на финском языке повести «Suurilla selkosilla». И Казаков в ответных письмах оправдывается в том, что эту помощь оказать не может. В письме от 7 ноября 1962 года писатель еще выражает готовность участвовать: «Теперь о вашей повести (или рассказе?) – я еще не смотрел, т. к. недавно приехал и вряд ли у меня найдется время сделать это раньше декабря – я делегат предстоящего совещания молодых и потом не был дома три месяца, накопилось очень много дел, переписки, изданий и переизданий – так что не сердитесь и потерпите». Спустя полгода, 9 марта 1963 года, Казаков окончательно отказывается от обещания перевести произведения Ортьё Степанова, с грустью сообщая об этом: «Очень жалко, что не могу я ничем Вам помочь <…> Не сердитесь на меня, ей-богу, я не могу сейчас осилить перевод. Для этого нужно светлое состояние души и досуг, а ни того ни другого долго верно у меня не будет».
В отсутствие ответной части переписки (сохранились ли письма Ортьё Степанова, неизвестно, среди опубликованных материалов их нет, а значительная часть архива в Абрамцево после смерти Казакова была утрачена [6: 287–288]) сложно сказать, как развивались отношения писателей в эти годы. Можно только констатировать заметное напряжение, которое по каким-то причинам разрешается к 1965 году. Об этом свидетельствует как сам текст, так и общая интонация письма от 22 сентября 1965 года, в котором Казаков возвращается к воспоминаниям о своей поездке в Ухту в 1961 году. В этом письме меняется даже форма обращения к Степанову – не «Вы», а «ты» – и Казаков использует те формулы, которые встречаются в его переписке с ближайшими друзьями (например, с упоминавшимся уже Виктором Конецким, одним из его постоянных адресатов и ближайшим другом на протяжении многих лет) – «старик» (в значении неформального, ироничного обращения), «милый». Интересно, что интимность тона появляется и по отношению к Карелии, которую Казаков в письме называет «наша Карелия».
Приводим текст письма полностью:
«Дорогой Артём Михайлович!
Листал сегодня свою старую записную книжку и попался мне твой адрес, вспомнил я лето 1961 года и свою поездку за Калевалой, и сердце моё наполнилось грустью, как всегда бывает при хороших воспоминаниях.
Может быть, тебе небезынтересно будет узнать, что “Калевала” моя обошла чуть не весь мир, переведена была на множество языков, и совсем недавно была напечатана во Франции в юбилейном тысячном номере знаменитого литературного приложения “Фигаро литерер”. Из иностранных авторов в этом номере присутствуют только два: америкнец Фолкнер и я. Видишь, какая штука получилась с Калевалой-то. Поистине счастливо было для меня то лето в далёком 1961 году.
А ведь я помню всё – и как спал у тебя на диване, как пружины мне в бок проникали, какие бледные прозрачные ночи были над озером, над Куйтто-ярви и как рад был я, что встретил тебя, познакомился с тобой.
И вот теперь думаю – неужто не приеду я больше в Карелию, неужто не попаду в те благословенные места? А ведь ты хотел мне ещё показать свою родину, повезти уже в какую-то совершенную глушь!
Нет, старик, попаду! Я ещё приеду, я ещё выпью воды из прозрачных озёр твоей прекрасной родины, Ортье!
Будь здоров, милый! Напиши мне, что новенького, как твои книги и вообще как живёт-может наша Карелия?
Адрес мой до 10 октября такой: Друскининкай, Литовской ССР, Почтамт, до востребования. 22 сент 65
Твой Ю. Казаков».
Приехать к Ортьё Степанову вновь Казакову так и не удалось. Но как минимум до конца 1960-х он следит за творчеством своего карельского проводника, не теряет решимости встретиться вновь, устраивает поездки в Карелию для своих знакомых: предположительно, в 1963 году – для Татьяны Смеляковой (жены поэта Ярослава Смелякова), в архиве Ортьё Степанова сохранилось ее письмо от 15 августа 1963 года с приветом от Казакова, в 1966 – для Федора Поленова. Об этих взаимодействиях говорится и в письме Казакова к Степанову от 10 июля 1966 года:
«Дорогой Ортье!
В этом году я так и не смогу наверное приехать – а хотелось бы. Но вот просьба к тебе такая – прими, пожалуйста, моих друзей Федора и Люсю Поленовых, покажи им ваши красоты, свози если найдешь время к себе в деревню, возьми на рыбалку, дай возможность им послушать какую-нибудь народную сказительницу и прочее.
Очень буду рад и благодарен, если ты что-то для них сделаешь, я им много говорил о тебе и о ваших местах.
Татьяна Смелякова со слезами на глазах вспоминала тебя и твой край. И я надеюсь, что ты приобщишь к Карелии еще двух друзей.
Будь здоров, дорогой, как только выйдет “Северный дневник” отдельной книгой, так пришлю тебе.
Всего самого доброго здоровья и творческих успехов.
Ю. Казаков
10 VII 66».
Федор Поленов (1929–2000) – внук и исследователь творчества Василия Поленова (1844–1927), директор Дома-музея В. Поленова под Тарусой в 1960–1990-х годах. С Казаковым они познакомились в 1958 году, когда путешествовали по Оке. Игорь Кузьмичев, рассказывая об их дружбе, отмечает любопытные пересечения судеб [5: 163], к которым следует добавить еще одно: Василий Поленов в детстве с семьей неоднократно бывал в Олонецкой губернии, а в 1861–1963 годах учился в Олонецкой губернской мужской гимназии в Петрозаводске. Эти факты могли всплывать в разговорах с Федором Поленовым во время совместных путешествий. А в 1959 году Казаков и сам побывает в Петрозаводске. Не исключено, что не только вслед за любимыми Пришвиным и Паустовским [8: 69–70], но и в места юности Василия Поленова, с внуком которого он был так дружен.
В 1967 году у Ортьё Степанова в Петрозаводске вышла повесть на финском языке «Koetus korpikylassa (Поединок в таежной деревне)». Открыткой Казаков поздравляет Степанова с выходом повести: «Дорогой Ортье! Прими, пожалуйста, от меня Новогодние поздравления тебе и твоей семье.
Поздравляю с выходом повести! Хотелось бы повидаться летом!
Ю. Казаков».
На обороте приписка: «У тебя самый поэтический адрес в мире!». Адрес Степанова на открытке:
Карельская АССР п. Калевала ул. Рун Калевалы 13».
По всей вероятности, летом встреча могла бы состояться у Степанова. Но исполнить замысел не удалось. А в декабре 1968 года Казаков зовет Степанова к себе в Москву:
«12 дек 68 г.
Дорогой Артем! Извини, что пишу тебе на Союз Писателей, потерял твой адрес.
У меня до тебя просьба – года два назад ко мне обратилась составительница сборника рассказов, статей, очерков и пр. – о Карелии. Сборник должен был выйти еще в 67 году. Я послал им “Калевалу” и с тех пор – ни слуху, ни духу. Я к сожалению, забыл фамилию составителя, но если такой сборник появился, то ты бы должен о нем знать. Ответь мне. Я купил себе дом. Будешь в Москве, заезжай в гости!
Обнимаю твой Ю. Казаков».
На обороте открытки вид и карта-схема поселка Абрамцево с его литературными достопримечательностями. Не совсем ясно, состоялась ли планировавшаяся перепечатка «Калевалы» в сборнике. В ежегоднике «Бригантина: сборник рассказов о путешествиях, поисках, открытиях» (Москва, 1967; составитель – Вл. Стеценко) был перепечатан очерк Казакова «Белые ночи» из цикла «Северный дневник». «Калевалы» в «Бригантине» нет. Сведения о перепечатке «Калевалы» в каких-либо сборниках в библиографии Казакова отсутствуют [7: 320].
Переписка Казакова и Степанова – это еще одно звено, связавшее московского писателя с Карелией на несколько лет, помимо тех поездок, которые он совершил, и впечатлений, которые переплавились в тексты рассказа «Адам и Ева» и очерка «Калевала». Она позволяет уточнить наше представление о роли, которую карельские маршруты сыграли в формировании поэтической топографии автора и, в частности, образа Севера как «края света» или «конца света» и одновременно места ярких людей, древней культуры, встречи с подлинной реальностью. В текстах, родившихся из карельских впечатлений, Казаков, что важно, не упрощает картину, не идеализирует свои северные скитания. Его Север – не лубочный, он многократно проблематизирован. Это особенно чувствуется в «Калевале», где автор обобщает свои наблюдения, вынесенные из многих поездок: «Печален все-таки Север! Лет шесть назад попал я на Север впервые, всю ночь плыл на пароходе из Архангельска, долго не спал, стоял на пустой палубе, ждал морской качки. Но не было качки, сияла низкая багровая луна, у борта вспыхивали, мерцали зеленые искры, а широкая лунная дорога тянулась до горизонта и там растворялась в блистающем мареве <…> И все это грянуло впервые на меня, ошеломило до озноба: вот и я здесь, вот и я сам вижу то, о чем только читал когда-то. Но меня подстерегало и другое – щемящее чувство пустынности, одиночества…» (II: 135). Северная меланхолия, впрочем, не отменяет открытий, совершаемых здесь внимательным человеком. И в финале очерка писатель расставляет акценты, выражая надежду на светлое будущее северных земель, которое продолжило бы их мощное прошлое: «И когда поднимаемся, когда начинает овевать нас теплый нежный ветер, когда кругом видна, кажется, вся страна с синими озерами, с нагромождениями камней и маленькими редкими деревеньками, – я думаю: придет время, и ничего этого не будет, не станет дикости, пустынности, на берегах озер возникнут стеклянные дома – тут ведь особенно любят свет! – и побегут шелковистые розовые, и желтые, и голубые дороги, и среди лесов будут краснеть острые черепичные крыши ферм, отелей и городов – тогда забудется многое, забудется бедность, приниженность избушек, бездорожье, одно не забудется – не забудется Калевала и великий дух Вяйнемейнена, осеняющий эту прекрасную страну, и имена сказителей, несших этот дух сквозь столетия» (II: 144).
YURI KAZAKOV AND KARELIA (ACCORDING TO LETTERS TO ORTJO STEPANOV DURING 1961–1968)
Список литературы Юрий Казаков и Карелия (по материалам писем к Ортьё Степанову 1961-1968 годов)
- Балакин А. По следам героев «Северного дневника» Юрия Казакова//Соловки в литературе и фольклоре (XV-XXI вв.): Сборник научных статей и докладов международной научно-практической конференции. Архангельск; Соловки, 2015. С. 238-251
- Галимова Е. Ш. Художественный мир Юрия Казакова. Архангельск: Издательство Поморского государственного университета, 1992. 172 с.
- Дюжев Ю. И. Народный писатель Карелии Ортьё Степанов. Петрозаводск, 2010. 271 с.
- Конецкий В. В. Некоторым образом драма. Л.: Советский писатель, 1989. 368 с.
- Кузьмичев И. Жизнь Юрия Казакова: документальное повествование. СПб.: Союз писателей Санкт-Петербурга: Журнал «Звезда», 2012. 536 с.
- Нагибин Ю. Время жить. М.: Современник, 1986. 511 с.
- Русские советские писатели-прозаики: Биобиблиографический указатель. Т. 7. Ч. 1. М.: Книга, 1971. 502 с.
- Шилова Н. Л. Адам и Ева на острове Кижи: Об одном сюжете Юрия Казакова//Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 9. Филология. Востоковедение. Журналистика. 2014. Вып. 4. С. 67-73.