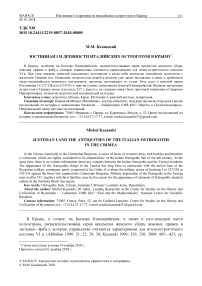Юстиниан I и древности италийских остроготов в Крыму
Автор: Казанский М.М.
Журнал: Материалы по археологии и истории античного и средневекового Причерноморья @maiask
Рубрика: Археология
Статья в выпуске: 10, 2018 года.
Бесплатный доступ
В Крыму, особенно на Боспоре Киммерийском, засвидетельствована серия предметов женского убора, поясных пряжек и фибул, которые справедливо считаются характерными для итало-остроготского костюма VI в. При этом никаких известий письменных источников о каких-либо контактах италийских остроготов с жителями Таврики нет. Появление остроготских вещей в регионе уже давно поставлено в связь с прибытием сюда византийского воинского контингента, частично состоявшего из готов. Речь идет о военной акции Юстиниана I в 527/528 или 533/534 гг. против гуннов, захвативших Боспор Киммерийский. Военная депортация остроготов в Таврику около или после 535 г. вместе с их семьями может быть причиной появления в Северном Причерноморье элементов остроготской материальной культуры.
Остроготы, италия, крым, юстиниан i, женский костюм, депортация
Короткий адрес: https://sciup.org/14118180
IDR: 14118180 | УДК: 930 | DOI: 10.24411/2219-8857-2018-00005
Текст научной статьи Юстиниан I и древности италийских остроготов в Крыму
В Крыму, а точнее, на Боспоре Киммерийском, а также в юго-западной части полуострова, засвидетельствована серия предметов женского убора, поясных пряжек и застежек—фибул, которые справедливо считаются характерными для итало-остроготского костюма VI в. (Айбабин 1990: 21, 22, 29, 30; Kazanski 1996: 329, 330; 2009: 405—423; ср.
МАИАСК № 10. 2018
Bierbrauer 1975). При этом никаких известий письменных источников о каких-либо контактах италийских остроготов с Крымом нет. В данной работе я попытаюсь предложить обьяснение их появлению к Крыму.
В числе итало-остроготских предметов, найденных в Крыму, следует назвать большие пряжки женского убора. Это, прежде всего, пряжка типа Крайнбург (Krainburg), украшенная парой орлиных голов, обнаруженная в погребении № 163 в Керчи, исследованном в 1904 г. (рис. 1: 1 ) (Засецкая, 2005: табл. II: 4 ; Kazanski 1996: 328, 329). По мнению Ф. Бирбрауера, пряжки этого типа относятся к числу итало-остроготских (рис. 1: 2 ) и датируются первой половиной VI в.1 (Bierbrauer 1975: Taf. 143—145).
Также к остроготской традиции принадлежат наиболее ранние пряжки типа Любляна Дравле (Ljubljana-Dravle) (рис. 2: 5 ), с прямоугольным щитком, украшенным kerbschnitt — декором (Bierbrauer 1975: Taf; 58: 2, 64 , 64: 2 , 76: 8 ). Это, в первую очередь, находки из Керчи2 и из погребения № 14 в Херсонесе, раскопанного в 1914 г. 3 (рис. 2: 4, 6 ). Пряжки того же типа обнаружены в крымских могильниках, таких как Скалистое, Лучистое и Суук-Су. Однако они, возможно, представляют уже местные реплики итало-остроготских пряжек (Kazanski 1996: 329, 330).
Довольно большую серию крымских находок составляют пряжки с прямоугольным щитком, украшенные растительным декором. Они найдены в Гурзуфе, Суук-Су, Скалистом, Черной Речке, Чуфут-Кале, Тамани и в Керчи (рис. 2: 1, 2 , 3: 5 ) (Kazanski 1996: 328, 330). Вполне возможно, что их прототипами послужили итало-остроготские пряжки (рис. 2: 3 ) (Bierbrauer 1975: Taf. 50: 1 ).
Пряжки с ромбическим щитком и зооорфным декором, известные в могильниках ЮгоЗападного Крыма (рис. 1: 4 ), отражают, по мнению А.К. Амброза, среднедунайское влияние (Амброз 1968: 17—20, рис. 3: 1, 2, 7, 9, 10 ). Там, а равно и на Балканах, такие пряжки действительно представлены. Но наиболее близкие крымским экземпляры, украшенные крестообразным декором в центре щитка, происходят из Италии, из Векьяццано (Vecchiazzano), что в провинции Эмилия-Романья, около Форли (рис. 1: 3 ) (Bierbrauer 1975: 332—334, Taf. 47: 1 ). На балкано-дунайских пряжках такого декора нет. Поэтому логичнее считать крымские пряжки дериватами итало-остроготских, в то время как балкано-дунайские составляют видимо прототип остроготских4.
Среди пальчатых фибул к остроготской традиции можно отнести застежки из Тамани (рис. 4: 1, 2 ) с решетчатым декором на ножке и волютами на пластине головки (Bott 1987: 100, No. I.5f; Kazanski 1996: 330). Параллели им имеются в остроготской Италии (рис. 4: 3, 4 ) (Bierbrauer 1975: Taf. 44: 1, 2 , 74, 6 , 82: 3 ; Menke 1986: Abb. 10, 11).
Наконец, представляется вполне вероятным, что многочисленная местная серия пальчатых фибул типа Удине-Планис (Гавритухин 2011; Bierbrauer 1975: 89—91), с растительным декором на головке и на ножке (рис. 3: 1, 3 , 4: 7 ) (Засецкая 1998: табл. IV, V: 66—68 , XVI: 6, 7 , XVIII: 1, 2 , XIX: 1, 2 ), в конечном итоге также возникает под влиянием остроготских прототипов (рис. 4: 5, 6 ) (Kazanski 1996: 330).
Дериваты этих вещей, как уже говорилось, хорошо известны в готских некрополях VI— VII вв. типа Суук-Су в Юго-Западном Крыму (Айбабин 1990; Амброз 1968; Засецкая 2005).
МАИАСК № 10. 2018
Следует уточнить, что в традиционных обществах женские украшения, входящие в состав «этнографического» убора, попадают за пределы конкретного социума, как правило, только вместе с их носительницами5.
Появление остроготских вещей в Крыму уже давно поставлено в связь с прибытием сюда византийского воинского контингента, частично состоявшего из готов (Веймарн, Амброз 1980: 260). Речь идет о военной акции Юстиниана I в 527/528 или 533/534 гг. против гуннов, захвативших Боспор Киммерийский (Айбабин 1999: 94—96; Артамонов 1962: 89, 90). Тогда, по свидетельству Феофана Исповедника, военачальники Иоанн и Руфин с большим вспомогательным «скифским» войском по приказу императора направились на засевшего на Боспоре гуннского царя Муагериса (Мугеля). Одновременно из фракийского Одиссополя на гуннов двинулись по суше в поход отряды Годилы и Бадурия. Гунны испугались и сбежали (Theoph., A.M. 6020). Иоанн Никиусский, рассказывая о том же событии, указывает, что по морю был отправлен десант из готов и «скифов» под командованием Тулиана, и одновременно многочисленная конница под командованием Бадуария двинулась на гуннов посуху (John. Nick., XC, 66). Иоанн Малала подтверждает отправку войск на Боспор морем и по суше — под командованием Бадуария, но не уточняет состав этих войск. Впрочем, несколько раньше он отмечает назначение Иоанна, упомянутого Феофаном, на должность комеса проливов Понта и придание ему для усиления многочисленных готов (John. Mal., 18, 14, 432).
Что же это за готы? Ими могут быть так называемые Gothi Minores — «малые готы» — многочисленный, вопреки названию, народ, проживавший тогда в Мезии (Iord., 267). Эти готы существуют еще в IX в. и продолжают говорить на своем lingua theodisca , как утверждал автор того времени Валлафрид Страбон (Вольфрам 2003: 40, 122). Их древности довольно хорошо представлены на территории современной Болгарии (Станев 2008; Haralambieva 2015; Vagalinski, Atanassov, Dimitrov 2000). Однако, судя по работам болгарских археологов, в Мезии имеется и некоторое количество остроготских вещей, вполне сопоставимых с италийскими древностями остроготов. Это пряжки типа Любляна-Дравле, пряжки с растительным декором, фибулы местных серий Удине-Планис (Думанов 2012: Обр. 19, 20, 22; Станев 2008: табл. XI: 3 , XII: 1, 2, XXIV: 3 , XXV: 1, 2 ; Haralambieva 2015: Fig. 2, 3, 5, 12). Можно предполагать, что какое-то количество остроготов было депортировано в Мезию.
Не исключено, что в Мезии могли расселить готов, плененных в ходе Готской войны и обременять их воинской службой, как это делалось в других частях Империи, например, в Египте6 (Zuckerman 2004: 170). У Прокопия Кесарийского неоднократно упоминается о наборе военнопленных готов в византийскую армию, непосредственно в ходе военных действий, например в 536 г. в Неаполе (Procop. Hist. Bell., V, 10, 37), или после захвата крепости Петра в 537/538 г. (Procop. Hist. Bell., VI, 11, 20). На сторону византийцев переходили и целые готские гарнизоны, включавшиеся в императорскую армию, как это было в 540 г. в Прибрежных Альпах (Procop. Hist. Bell., II, 28, 30).
Привлечение к охране границ Империи на дальних рубежах только что захваченных военнопленных вполне соответствует стилю византийской военной политики. Об этом
МАИАСК № 10. 2018
свидетельствует, например, депортация пленных вандалов из Африки на персидскую границу (Procop. Hist. Bell., IV, 14, 17, 18). Из них были сформированы пять воинских частей, называвшиеся Vandali Iustiniani , впоследствии принявших участие в войне с персами (Courtois 1955: 355; Procop. Hist. Bell., II, 21, 4; Stein 1949: 320).
Не стоит удивляться, что гипотетическое перемещение остроготов на Понт выявляется в первую очередь по элементам женского убора. Очевидно, что готские солдаты, попавшие в армию Юстиниана, в Италии сопровождались семьями. И, как известно любому археологу, когда-либо непосредственно работавшему с «варварскими» древностями Европы, этнографические традиционные черты сохраняет в первую очередь женский костюм. В то время как мужской более интернационален, поскольку подвержен «воинской» моде, общей для варваров и идущей из римской (ранневизантийской) армии.
Однако вряд ли Юстиниан I в экспедиции 527/528 или 533/534 гг. мог использовать военнопленных из Италии. Ведь Готская война началась только летом 535 г. Впрочем, ничто не мешало послать в Крым этих готов позднее, так сказать в подкрепление уже обосновавшимся там гарнизонам. Кроме того, какая-то часть остроготов могла попасть в плен к византийцам в 530—535 гг. в результате нападения на остроготский Сирмиум. Действительно, в 530 г. гепиды в союзе с герулами, при участии полевого командира Мунда и его бандитов, и с молчаливого согласия византийского императора атакуют остроготский Сирмий, однако их атака отбита. Тем не менее, в 535 г., в начале Готской войны, армия Юстиниана всё же занимает Сирмий7. Вполне возможно, что захваченные в плен в ходе этих военных действий остроготы депортированы на восток, во Фракию, где, как уже было сказано, имеются остроготские вещи, а може быть даже и в Крым.
Действительно, завоевание Сирмия произошло практически одновременно с отправкой экспедиционного корпуса на Боспор Киммерийский против захвативших его гуннов. Военная депортация готов в Крым около или после 535 г., вместе с их семьями, может быть одной из причин появления в Северном Причерноморье элементов остроготской материальной культуры.
Список литературы Юстиниан I и древности италийских остроготов в Крыму
- Айбабин А.И. 1990. Хронология могильников Крыма позднеримского и раннесредневекового времени. МАИЭТ I, 3-86, 175-241.
- Айбабин А.И. 1999. Этническая история ранневизантийского Крыма. Симферополь: Дар.
- Амброз А.К. 1968. Дунайские элементы в раннесредневековой культуре Крыма (VI-VII вв.). КСИА 113, 10-23.
- Артамонов М.И. 1962. История хазар. Ленинград: Государственный Эрмитаж.
- Веймарн Е.В., Амброз А.К. 1980. Большая пряжка из Скалистинского могильника (склеп 288). СА 3, 247-262.
- Вольфрам Х. 2003. Готы. От истоков до середины VI века (опыт исторической этнографии). B: Щукин М.Б., Бондарко Н.А., Шувалов П.В. (ред.). Санкт-Петербург: Ювента.
- Гавритухин И.О. 2011. Фибулы типа Удине-Планис. В: Шаров О.В. (отв. ред.). Петербургский апокриф. Послание от Марка (сборник, посвященный памяти Марка Борисовича Щукина). Кишинев: Высшая антропологическая школа, 463-490.
- Думанов Б. 2012. Долнодунавските готски паметници, украсени с Kerbschnitt. Фибули. Селищна Археология VII, 112-151.
- Засецкая И.П. 1998. Датировка и происхождение пальчатых фибул боспорского некрополя раннесредневекового периода. МАИЭТ VI, 94-478.
- Засецкая И.П. 2005. О хронологии и взаимосвязи орлиноголовых пряжек из Боспорского некрополя и южнокрымских могильников раннесредневекового периода. НАВ 7, 57-102.
- Казанский М.М. 2017. О появлении гепидов в Крыму в VI веке. В: Алексеенко Н.А. (коорд.). Империя и полис. IX Международный Византийский Семинар. Севастополь: Херсонесский музей, 53-58.
- Мастыкова А.В. 2009. Женский костюм Центрального и Западного Предкавказья в конце IV - середине VI вв. Mосква: Институт Археологии РАН.
- Репников Н.И. 1907. Некоторые могильники области Крымских Готов. ЗООИД. Т. XXVII. Одесса: «Экономическая» типография и литография, 101-148.
- Станев А. 2008. Източногермански паметници от территорията на балканските провинции на Източна Римска империя (V-VI век). Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен «доктор». София: Софийски университет.
- Bierbrauer V., von Hessen O., Arslan K.A. 1994 (eds.). I Goti. Catálogo de la Exposición. Milán: Electa Lombardia.
- Bierbrauer V. 1970. Die ostgotischen Grab- und Schatzfunde in Italien. Spoleto: Centro Italiano di s sull'alto Medioevo.
- Bott G. 1987 (Hrsg.). Germanen, Hunnen und Awaren. Schätze der Völkerwanderngszeit. Nürnberg: Germanischen Nationalmuseums.
- Courtois C. 1955. Les Vandales et l’Afrique. Paris: Arts et Métiers graphiques.
- Haralambieva A. 2015. East Germanic Heritage on the Western Littoral of the Black Sea. Bow-Broches of the Szekszárd-Palánk und Udine-Planis as Archaeological Evidence. In: Vida T. (ed.). Romania Gothica II. The Frontier World Romans, Barbarians and Military Culture. Budapest: Institute of Archaeological Science at the Eotvos Lorand University, 577-583.
- Kazanski M. 1996. Les Germains orientaux au Nord de la mer Noire pendant la seconde moitié du Ve s. et au VIe s. МАИЭТ V, 324-337, 567-581.
- Kazanski M. 2009. Archéologie des peuples barbares. Bucarest; Brăila: Editura Academiei Române (Florilegium magistrorum historiae archaeologiaeque Antiquitatis et Medii Aevi V).
- Menke M. 1986. Archäologische Befunde zu Ostgoten des 5. Jahrhunders in der Zone nordwärts der Alpen. In: Kmieciński J. (Hrsg.), Archaeologia Baltica. T. VII. "Peregrinatio Gothica". Łódź: Katerdra archeologii Uniwersytetu łódzkiego, 239-281.
- Stein E. 1949. Histoire du Bas-Empire. Tome II. De la disparition de l’empire d'Occident à la morе de Justinien (476-565). Paris; Bruxelles; Amsterdam: Desclée de Brower.
- Vagalinski L., Atanassov G., Dimitrov D. 2000. Eagle-Head Buckles from Bulgaria (6th - 7th centruries). Archaeologia Bulgarica IV(3), 78-91.
- Zuckerman C. 2004. Du village à l’Empire. Autour du registre fiscal d’Aphrotitô (525/526). Paris: Association des amis du Centre d’histoire et civilisation de Byzance.