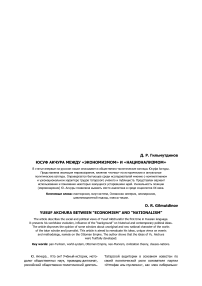Юсуф Акчура между "Экономизмом" И "Национализмом"
Автор: Гильмутдинов Данияр Рустамович
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: Конференции, семинары
Статья в выпуске: 1 (23), 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье впервые на русском языке описываются общественно-политические взгляды Юсуфа Акчуры. Представлена эволюция мировоззрения, влияние «почвы» на исторические и актуальные политические взгляды. Опровергается бытующее среди исследователей мнение о компилятивном и узконациональном характере трудов татарского учёного и публициста. Представлен вариант использования и понимания некоторых кажущихся устаревшими идей. Уникальность позиции (мировоззрения) Ю. Акчуры позволила выявить место аналитика в среде социологов XX века.
Пантюркизм, мир-система, османская империя, неомарксизм, цивилизационный подход, классы-нации
Короткий адрес: https://sciup.org/14114297
IDR: 14114297
Текст научной статьи Юсуф Акчура между "Экономизмом" И "Национализмом"
Ю. Акчура… Кто он? Учёный-историк, методолог общественных наук, провидец-дипломат, российский общественно-политический деятель.
Татарской аудитории в основном известен по своей политической роли основателя партии «Иттифак аль-муслимин», как член либерально- го, европейского направления общественнополитической жизни татар-мусульман. Деятельность в годы иммиграции в Османской империи и Турецкой Республике раскрывает нам другую его сторону. Здесь он писал антиевропейские, антилиберальные памфлеты и статьи. Попробуем разобраться, как в одном человеке сочетаются подобные взгляды.
Среди татарской интеллектуальной элиты Акчура — уникальная личность, поныне не превзойдённая ни по широте интересов, ни по глубине идей, а тем более по признанию в мире и воплощению интеллектуальных построений на практике. Им прочитано, написано и отредактировано огромное количество сложнейших произведений на разных языках (в основном османско-старотатарском). Однако определенной системности и общей цели его отдельных трудов и мыслей, единой и целостной концепции исследователи до сих пор не выявили. Мы попробуем обнаружить некую эволюцию взглядов и найти место Юсуфа Акчуры в среде мыслителей XX века.
«Созревание» теории
Социология тяготеет к генерализации, созданию общих теорий развития человеческого сообщества. Сторонником подчинения истории социальным законам, вслед за Огюстом Контом, был и Ю. Акчура.
Ю. Акчура получил образование в пригороде французской столицы, в Сорбонне. Здесь в XIX веке работали крупные учёные, такие как основатель историко-филологического факультета Университета Нюма-Дени Фюстель де Ку-ланж. Выпускная работа Акчуры «Эссе об истории институтов Османского султаната», изданная в 1903 году, испытывала явное влияние «институционального» направления основателя «сорбоннской школы» и «самого известного из историков», названного так в одном из самых первых «исследовательских опытов» тридцатилетнего татарского интеллектуала «Науки и истории» [12, с. 613]. Данный труд был впервые издан в 1906 году и написан явно во «французском духе» — искались причины включения «науки о прошлом» в состав наук, критиковалась её «ангажированная», мифологическая, теорети-зированная нарративность. Главным в ней виделись факты, описательность. Поэтому данный период является «позитивистским» периодом жизни Ю. Акчуры как историка. К. Маркс представлен здесь как догматизатор, видящий в истории борьбу враждебных классов за присвоение средств материального производства [12, с. 613].
С этого времени до создания Турецкой Республики Ю. Акчура много занимается публици- стикой — пишет как в турецкую прессу, так и корреспондентские очерки для татарской газеты «Вакыт». Общественно-политическая деятельность в Османской империи привела к эволюции его теоретических взглядов, в которой можно обнаружить две ступени. Первая — через изучение османских политических институтов развился интерес к тюркской общности. Этот переход заметен по «визитной карточке» Ю. Акчу-ры — памфлету «Три вида политики», вышедшему в 1904 году. Общественно-политическую статью, написанную в родной деревне Староти-мошкино (Зиябаш) в Симбирской губернии, можно назвать выходом за рамки «сорбоннской исторической школы». Исследование истории политических институтов Османской империи заставило ученого задуматься о специфике каждой конкретной эпохи и местности в истории, о самоэволюции. Во-вторых, изучение исторической методологии вывело его на изучение истории общественно-политических идей в целом. Он понял, насколько Османская империя зависит от Европы в ментальном отношении, оценил значение (в отношении Османской империи негативное) идеологии.
Действительно, между европейским субконтинентом и близлежащими к нему регионами проходит некий мировоззренческий разрыв. Взять, к примеру, «крестовые походы», которые для Европы были временем духовного и религиозного подъёма. Этот разрыв Ю. Акчура замечает ещё в начале XX века, определив его как «восточный вопрос». В статье «О восточном вопросе», написанной примерно в это время и напечатанной через 10 лет в сборнике «Статьи, вышедшие в старом журнале “Совет уммыˮ» в 1913 году, единственный выход из кризиса он видит в прохождении османским обществом того же пути революций и кровавых конфликтов, которые прошла Европа [5, s. 41]. Однако в 1920 году в Стамбуле он издаёт отдельную книгу, названную «Исторические записки о восточном вопросе», где пишет о том, что Запад (в широком смысле) всегда с пренебрежением относился к восточным соседям, причём опирается опять же на европейских авторов, «признавших» существование «восточного вопроса». Но Ю. Акчура не поддаётся эмоциям, как, например его соратник по иммиграции Абдурашид Ибрагимов. Расовый тип (христианский или хри-стианизаторский) формируется в результате серии событий, когда цивилизация вынуждена защищаться. В этой работе наиболее ярко проявились основные черты мышления Ю. Акчуры: закономерное создание региональных коллек- тивов с определёнными расовыми чертами (отношением к соседним, «диким» народностям), когда создавшийся центр силы даёт возможность [не замечает] создания такого же центра силы по соседству (например, Европа в VIII веке не замечает усиление восточно-славянского (русского) племени). Сама же возникшая русская цивилизация не могла не расширяться в западном и южном направлениях [4, s. 36]. Ю. Акчура близко подходит к представителям цивилизационного направления (А. Тойнби, О. Шпенглеру, К. Квингли и другим), основоположником которого был североафриканский араб Абдуррахман ибн Халдун, живший в XV веке, а также к идее представителя «школы Анналов» Анри Пиррена о появлении североевропейской христианской цивилизации в ответ на расширение территории ислама вокруг Средиземноморья. Экономический фактор как гарантия устойчивого существования цивилизации является ключевым для Кэрролла Квингли. Появление «восточного вопроса» (в том числе и у Османской империи) Ю. Акчура так же, как и Квингли, связывает с ослаблением сил цивилизации. Идея неизбежного завоевания ослабленной цивилизации (приоритет внешнего фактора над внутренним) также говорит об этом. Война, завоевания, создание «Империи» — начало конца цивилизации у обоих авторов. Однако Ю. Акчура идёт дальше.
Первая мировая война привела к появлению нового «тренда» в мировоззрении — социалистической идеи. В разных странах произошли социалистические революции. Большинство речей и книг, написанных Ю. Акчурой в 20-е годы XX века, отражают его увлечение социализмом. Он нашёл закономерность истории в экономическом факторе. Классы — вот объективно существующие общности, из-за экономических интересов отдельных членов которых происходит постоянная борьба. Все мировые конфликты в виде национальных, религиозных и других войн имеют «обманчивую» природу. На самом деле их причиной являются экономические интересы господствующих социальных классов.
Историей он не перестаёт заниматься до конца жизни. Последняя крупная работа «Период упадка Османского государства (XVIII—XIX века)» была напечатана в Стамбуле в 1940 году. В реальности здесь он описывает правление только одного императора, начавшего реформы, — Селима III. В одной из своих речей попытки реформ этого султана он связывал с классовой борьбой. По его мнению, классовые интересы приведут к объединению среднего и высшего уровней. В дальнейшем они будут поражены «волной неповиновения» низшего. Именно в этом виделась идея закономерности, необходимости в историческом процессе.
Основной вопрос, который остаётся открытым, — есть ли границы детерминизма развития человечества по Ю. Акчуре? На чём основывается теория развития человечества — на природных закономерностях или телеологическом (предсказательном, умопостигаемом) идеализме автора? На наш взгляд, для Ю. Акчуры этого противоречия не существовало. «Идеализм» происходит от слова «идея», а она — проявление либо коллективной, либо же индивидуальной природы, а потому является главным двигателем истории. Более актуальным в отношении нашего автора является вопрос соотношения социальной теории и реальных потребностей (материальных, статусных и т. д.). Данный вопрос поможет нам раскрыть информация, описывающая общественно-политические взгляды и деятельность Юсуфа Акчуры.
Выправление теории «практикой»
Трудно отделить Ю. Акчуру-учёного от Ю. Акчуры-публициста. В обеих этих ипостасях для него характерен экономический детерминизм. В основе любых катаклизмов (войн, революций, переворотов) лежат экономические интересы. Он, безусловно, сторонник большинства, демократизма в первоначальном значении «народовластие», а поэтому является сторонником революций, когда большинство народа свергает деспотичную власть. Главным принципом демократии, по его мнению, является её народный характер («халыкчылык»). Следуя периодизации эволюции международного права, основанного на главенствующем в ту или иную эпоху принципе, предложенной российским юристом Ф. Мартенсом, краткая характеристика которой заключается в том, что до Вестфальского мира (1648) оно базировалось только на экономических интересах, затем до 1815 года — на политических идеологиях, до 1903 года — на основе национального фактора [1, s. 27—28], Ю. Акчура заключил, что общественное мнение отходит от волюнтаризма и прислушивается к объективным обстоятельствам. Из этого можно сделать некие заключения о степени тесноты взаимоотношений экономики и политики. В это время ученый ждал окончания «социалистического эксперимента» в советской России, понимая, что так проявляет себя экономический фактор. Однако в начале века в статье, посвящённой Первой российской революции, он писал, что классовые противоречия не характерны для истории России и они были занесены из-за рубежа [3, s. 59], то есть это был искусственный конфликт. Здесь мы также видим эволюцию во взглядах Ю. Акчуры за время грозной первой четверти XX века. Уже в начале XX века у него присутствовало понимание цивилизационного разрыва по линии «пояса верности» Европе, но классовый подход ещё не был до конца осмыслен. В дальнейшем победит «глобальная перспектива» — экономическое неравенство проявит себя в любом случае в каком-либо виде и повлияет (или сконструирует) политический режим!
После Французской революции идеология либерализма превратилась в орудие пропаганды (англичане, как правило, предлагали идеи, а французы их популяризировали). Ю. Акчура противопоставляет либерализм («хурриятпар-варлек») демократии: «В XIX веке у либералов произошло разрушение единства двух идей: либерализм возвысили, а от демократизма отказались; исходя из этого, эти либералы отказались от национального правительства. Таким образом, невежество, незнание массой цены свободы привело к торжеству демагогии в политике. Не либеральная идеология, умственный прогресс, гуманистическое мировоззрение привели к отказу от рабства и феодализма. К упадку прежних организаций общества привело появление рабочих, сменивших прежние средства производства. Для капитализма нужна рабочая сила, а значит эмансипация, идеология индивидуализма и свободного выбора. «Декларация прав человека», принятая в США, является артикулированным голосом позиции капиталистов. В реальности человек не может быть свободным, поскольку нет экономической свободы в виде пользования одинаковыми возможностями — поэтому права личности неизменно ограничиваются или, наоборот, излишне увеличиваются» [1, s. 161].
В 20-е годы Акчура выступает против основополагающего элемента европейской демократии — теории разделения властей. Он считал, что Монтескье пришёл к этой теории, анализируя положение в Англии того времени. Для ограничения королевского абсолютизма необходимо разграничение полномочий между разными ветвями власти. Для разваливавшейся Османской империи же необходимо было не разделение, а единство власти [6, s. 184—185].
Что же происходило в Османской империи? Османская империя приняла «либерализм» как закон, поскольку механизмы и формы экономики здесь не обсуждались (среди исключений, протестовавших против западного варианта свободного рынка, названы лишь татарин Муса Акъегет и материалист Джавдат-паша). Турки-османы после завоевания Константинополя впитали чуждую им местную атмосферу — стали подчинять балканских иноверцев, продолжая имперскую политику Византии, а в отношении восточных, мусульманских территорий была выбрана также имперская политика Халифата, идеология, эффективная для борьбы с конкурентами — сефевидским Ираном, Румийским (сельджукидским) султанатом, мекканскими арабами, Тамерланом, Мухаммедом-Али и т. д. Политическая необходимость брала верх над желаниями конкретных монархов (так, превращение в империю стало «визитной карточкой» Баязида II «Дервиша», отличавшегося религиозностью) [4, s. 50—55]. Эти события, связанные с корнями «османизма», описываются в книге, освещающей «восточный вопрос», и являются критикой «турецкого империализма». Это свидетельствует о том, что турки, так же как и русские, рассматривались Ю. Акчурой как часть европейского пространства, что только обездвижило их как в экономическом, так и в религиозно-моральном отношении — они перестали ориентироваться на себя, а государство стало «панацеей» от всех проблем.
Итак, мир не был единым. Он состоял и состоит из множества противоречий — экономических, национально-расовых, личностных. Эти противоречия детерминированы самой природой взаимоотношений людей. Уже начиная с памфлета «Три вида политики» для Ю. Акчуры главным является не взаимоотношение власти и общества — на разных территориях традиция гражданской организации складывается разная, а создание гармоничного общества, не раздираемого внешними и внутренними противоречиями [8, s. 74—75]. Это общество характеризуется сильной властью, по возможности «родственным» населением, выбирающим собственный путь развития и защищающим его как самое ценное, «аманат». Таким образом, Ю. Акчу-ра, безусловно, партикулярист. Для полной и долговременной реализации локального общества требуется накопление сил, в том числе благодаря изучению и углублению собственного духовного наследия. Какова роль государства? Государство охраняет общество как снаружи, так и изнутри. Однако надо чётко прописывать границы полномочий государства — это сфера образования, защита традиционных религий и т. д. В противном случае когда, например, потребуется защита территории от нападения снаружи, свободу личности сохранят только военные... [1, s. 30—31]. Предпочитаемый строй — социализм. Его можно назвать «экономизмом» с политикой или национализмом без либерализма. Обе эти характеристики отражают защиту предсказуемого государственного суверенитета. Лозунг Великой Французской революции «Свобода! Равенство! Братство!» ученый предлагает отбросить, заменив его на «Национализм! Народность! Просвещение!» («Миллятче-лек! Халыкчылык! Айдынлык!») [6, s. 113]. Здесь можно заметить, что, в отличие от многих со-ратников-«новометодников», Ю. Акчура мало писал об образовании, необходимости знаний и т. д. — это подразумевалось само собой! Отличие Турции от Европы заключалось только в отсутствии интереса к этой очень важной сфере.
«Мир-система» Ю. Акчуры
Цивилизационный подход, изучение истории человечества как истории отдельных цивилизаций — это сумма научно-гуманитарных подходов разных стран. А. Тойнби — англичанин, О. Шпенглер — немец, К. Квингли — американец, Айзенштадт — израильтянин. Только французские исследователи не встречаются в списке. Однако француз Ф. Бродель был одним из учёных, которые ввели в научный оборот термины «мир-экономика» и «мир-система». Этим самым они дали новое направление теории цивилизаций. Одним из источников теории «мир-системы» является деятельность упомянутого выше Н. Д. Фюстеля де Куланжа, утверждавшего, что религия и мировоззрение приводят к формированию определённой институциональной структуры на территории. Он сформировал свою «идеологическую» теорию в ответ на расовую интерпретацию истории немцем Т. Моммзеном. Ю. Акчура (как и основатели теории мир-системного анализа И. Валлерстайн и другие) сумел объединить обе эти традиции. Одним из основных свойств «мир-системщиков» и Ф. Броделя является разделение цивилизации на «ядро» и «периферию». Новая цивилизация должна возникнуть на границе предыдущей. Для Ю. Акчуры, придерживающегося расового фактора, это сделать сложнее, так как расы — это «изначальные» единицы, существующие тысячелетия и являющиеся ключевыми субъектами истории человечества. Однако турецкая цивилизация находится на границе европейской, и поскольку включение её в мировое сообщество является вопросом времени, данный факт вписывается в это ключевое свойство «мир-системного» подхода. Турецкое могущество будет долговременным благодаря совмещению ею как низших эксплуатируемых классов, так и ядра европейской цивилизации. Таким образом, Акчура, в отличие от Валлерстайна, не настолько сильно отошёл от классического марксизма, где противостояние происходит на одной территории.
Основными направлениями, повлиявшими на возникновение теории мир-системного анализа Иммануила Валлерстайна, являются теории Броделя, «зависимости» (dependency theory) и марксизм. Теория зависимости, как и сам «мир-системный» анализ, оформилась во второй половине XX века, причём, говоря об изначальном неполноправии Запада и Востока, она не была социалистической. Эти же идеи имелись (с восточной перспективы) и у Ю. Акчуры (хотя К. Маркс не был переведён на турецкий до последнего времени). По-видимому, во время Ак-чуры это были единые теории (социализм и зависимость), и лишь в последнее время они отделились и стали связываться только с капитализмом.
Итог исследования идей европейских мыслителей — собственная мир-система, цивилизационный подход, «валлерстайновская» форма и цивилизационное содержание. Нужно заметить, что «примордиализм» Ю. Акчуры противоположен экономическому детерминизму, поскольку экономика делает границы между нациями, а тем более расами, расплывчатыми. По выражению Ю. Акчуры, европейцы всё превращают в идеологию. Вот эти же направления (зависимость, османы как пролетариат и т. д.) вылились в научные теории, «бренды», связанные с мнением определённого «основателя». У И. Вал-лерстайна расовый фактор уходит из своей «субъектности» и не проявляется до… заката западной накопительской экономики. Что будет потом — неизвестно.
У Ф. Броделя Османская империя сама по себе представляла собой «мир-экономику», поскольку она ограничивается рамками цивилизаций. Валлерстайн же считает Османскую империю частью (полупериферией) капиталистической «мир-системы». «Мир-система» же, по мнению Валлерстайна, обозначает ту же «мир-экономику» Ф. Броделя [13]. Бродель не принимал во внимание классово-национальные противоречия. По мнению некоторых исследователей, правильнее было бы даже включить Российскую и Османскую империи в «ядро» мир-системы [11]. Исследователи Османской империи также подчёркивают резкое увеличение контактов на рубеже XVII—XVIII веков [14, с. 526]. Признаком «мир-системы по Валлерстайну» вы- ступает не только регулярность контактов. Ю. Акчура, так же как и Валлерстайн, противопоставляет «мир-империю» и «мир-экономику». Так, он говорит, что в XVI веке происходит создание капитализма в нынешнем смысле (накопительства), правда отмечает, что причин, по которым это происходит, он не знает (по мнению Валлерстайна, этот капитализм создаётся случайно из-за чумы, следствием чего был резкий демографический спад, приведший к замене людской силы механической). Ю. Акчура пишет о прямом влиянии европейской жизни на Османскую империю в XVII веке в книге «Экономика и политика» [6, s. 146]. Он говорит, что под влиянием идей прогресса, появившихся в Европе, и открытия путей в Азию и Латинскую Америку турки напали на Крит, что имело далеко идущие печальные последствия для Халифата. Даже название, придуманное Европой для Османской империи — «слабый человек Европы», также свидетельствует о господстве там европейских порядков.
С одной стороны, европейский капитализм способствовал тому, что ремесленники, потеряв прежний порядок и приличие («адаб»), из промышленной элиты превращаются в простых рабочих [6, s. 151], а с другой — борьба рабочих за свои права привела к развитию человечества, переходу от рабовладения и феодализма к гражданскому равенству. По мнению Ю. Акчуры, это была экономическая победа простых производителей, а не политическое торжество идеи «свободы», о чём говорят сторонники либерализма. Если европейский колониализм был естественным следствием развития идеи накопления капитала, то политика османских султанов шла вразрез с историей [6, s. 165]. Следующая цитата из этого же произведения говорит о том, что с классом рабочих можно отождествить всё население Анатолии, что является «корнем» теории И. Валлерстайна: «Господа! Делая вывод из вышесказанного, что станет с нашими людьми, оставшимися без промышленности, классового деления, торговли, земли и жилищ? Что в прямом смысле произойдёт с живущим на зарплату чиновником, военным, рабочим, служащим, наёмным, носильщиком… Это пролетариат в новом смысле, изо дня в день радующийся новому дню и новой пище...» [6, s. 62]. В 1920 году он считал, что международные отношения будут строиться на социалистических принципах: «После очередной мировой войны в начале XX века классовый конфликт, сдерживавшийся после наполеоновских войн национальной идеей, победит её, и на четвёртом этапе [с 1903
года] в международных отношениях, скорее всего, будет господствовать одна общественная мысль» [1, s. 28, сноска].
Итак, заложил научную основу наук об обществе Огюст Конт, основатель «позитивизма» и представления об обществе как об организме. Это представление сохранилось и у Акчуры. Однако этот «природный организм» он видел в расовом единстве, в бессознательном проявлении определённого расового типа. Со временем расовый тип изменяется из-за определённых конкретно-исторических условий. В частности, с конца XVII века главным ориентиром развития элиты Османского государства стали страны Западной Европы. По-видимому, Ю. Акчура считал, что без определённого копирования развития стран Европы Османской империи было не обойтись. Но он видел в развитии Европы два идейных направления: наследие Ренессанса и наследие Реформации. По форме оба эти движения были объединены борьбой с католической церковью. Однако просветители, Французская революция и «наполеоновские» войны внесли сумятицу, тогда как Реформация в Германии привела к созданию единой нации и государства [1, s. 8—9]. По мнению Ю. Акчуры, лозунг Французской революции «Свобода! Равенство! Братство!» в корне противоречив. Свобода (либерализм, «хуррият») на практике приводит к неравенству, поскольку она разделяет общество соответственно их классовым интересам. Понятие «нация» как естественный, природный «общественный организм» французы не сумели чётко сформулировать. Произошло формирование либерального государства, где индивидуальные и корпоративные экономические интересы для достижения политической власти используют «политическую догму» («сэяси акыда»).
Ю. Акчура жил в период смены исторической методологии. Находясь в курсе последних идей европейской науки и политики, он не мог не заметить смену исторического мировоззрения. Если в конкретных мыслях это выразилось у него достаточно отрывочно, то по форме творческой деятельности он почувствовал эту смену очень ясно. Так, большая часть его творческих замыслов связана не с историей и методологией, а с анализом настоящего, то есть публицистикой, журналистско-аналитической деятельностью. В памфлете «Науки и история» он пишет, что история должна открывать законы, однако в «османский период» жизни он начинает утверждать, что история не может сравниваться с математикой. Довольно чётко прослеживается раскрытие Ю. Акчурой взглядов двух школ: цивилизационной (он пишет о Ибн Хал-дуне, Вико) и динамической «школы повседневности» (будущей «школе анналов»). Об ориентации на идеи последней говорит цитирование идейного вдохновителя «Анналов» Фюстеля де Куланжа, а также восхваление татарских «исторических хрестоматий»: «Асар» Ризы Фахретди-на и «Мустафад аль-ахбар» Шигабутдина Марджани [12, б. 615].
В наши дни политический либерализм на Западе празднует победу. Естественным объектом социальных наук перестали считаться естественные социальные группы. «Позитивизм» эволюционировал в «постпозитивизм» Карла Поппера, написавшего книгу «Нищета историцизма», опровергающую любые закономерности и планомерную эволюцию, независимую динамику объекта исследования в гуманитарной сфере. Сам «историзм» мутировал в «нео-историзм», провозглашающий различие понимания истины, моральной шкалы в разные эпохи в зависимости от общественного мнения, а поэтому больше связан с литературой, нежели с наукой. Тренд очевиден — науки всё больше специализируются, а социум описывается в качестве некой внеприродной, «переросшей природу» организации. Здесь действуют не материальные законы, а законы психики (религиозные чувства, зависимости и т. д.). А ведь и основатель английского позитивизма Джон Стюарт Милль говорил о психике как главном объекте науки, но в плане общих законов. Возможно, отсюда употребление американской дипломатией времён «холодной войны» термина «containment», переведённого на русский язык как «сдерживание». На самом деле оно переводится как «кон-тейнирование», создание автономии, что, по-ви-димому, было ядром концепции Ю. Акчуры. По его мнению, мир был и должен остаться партикулярным, где должны присутствовать точки силы, некие «силовые поля», защищающие свой образ жизни, свои обычаи. Мы видим, как даже по языку заметна разница менталитетов.
Ю. Акчура выступает за сохранение «аборигенного права», права большинства. Это коррелирует и с исламским принципом «савад агъ-зам» («крупнейшая тьма»), говорящим о количественной силе мусульман. С исламом его также сближает доверие «бессознательному» и противостояние на каждой территории представителей «добра и зла». Сторонниками защиты этого «права на обычай» были и другие известные татарские иммигранты в Стамбуле. Место обычая в исламе защищал известный богослов Халим Сабит, который в полемике с Зиёй Гекал- пом (являющимся оппонентом и Ю. Акчуры) опирался на идеи социологии Э. Дюркгейма. Возможно, эту позицию «бессознательной защиты традиционного автономного образа жизни» можно назвать татарской моделью, «бессознательно» привнесённой татарами на берега Босфора, о чём писал Ф. Жоржон [10]. Однако была ли она востребованной? На наш взгляд, эта идея долговременна и измеряется веками. Расовый фактор в период торжества «накопительного капитализма» закономерно уходит на второй план. Однако попробуем реконструировать теорию Ю. Акчуры с позиции народа, живущего в положении внутренней диаспоры, как татары в России. Фактор крови сильно заметен при смене поколений. В отличие от религиозных и личных предметов, оставшихся в наследство новым поколениям, большее внимание достаётся близко воспринимаемым на бессознательном уровне вещам, с которыми бессознательно чувствуется ассоциация, то есть вещам, связанным с некой эстетикой, комфортом, образом жизни. А что, как не генетический тип, определяет приоритеты на этом уровне... В странах Европы же побеждает богатство, внешний лоск повседневной «коммуникативнофактологической ситуации». Здесь гарантом стабильности при смене поколений выступает только государственная машина.
Акчура умирает в 1935 году в Стамбуле. Турция чётко пошла по пути моноэтничности и тюркизма. Однако по прошествии чуть больше 10 лет на одной из стамбульских социологических конференций доклад, посвящённый ему, Ниязи Беркес назвал «Забытый человек»… [9, s. 55—66]. Критика «многонациональное™» Османского государства Ю. Акчурой была встречена далеко не однозначно. Но неужели человек, всю свою жизнь посвятивший независимости турецкого народа, оказался забыт? На наш взгляд, виновата в этом его «татарская модель». Она реализовалась в Турции в полной мере, но «имперская» ностальгия и секулярные соседи, нынешние политические союзники в лице европейцев до сих пор не дают турецкому народу почувствовать себя равными, полноценными и экономически дееспособными.
По-видимому, Ю. Акчура был из тех учёных, на которых сильное влияние оказывает политическая среда и бытующее общественное мнение. Он был плодом «научной революции». Его теория общественного развития, несмотря на присутствие некоторых противоречий, в общем и целом понятна. Однако что произойдёт, когда раса через своё государство добьётся экономи- ческого расцвета? Останется ли принцип «кровного родства» актуальным и приоритетным, и что будет его поддерживать? На наш взгляд, на этот вопрос Акчура не даёт ответа. Возможно, оказавшись в американской среде, он поменял бы своё мировоззрение. Ценность «расовонационального» принципа заметна в «чужеродном» окружении, в котором жили и живут татары. При наличии собственного государства шкала приоритетов смещается в экономическую сторону. Сознательное одерживает победу над «бессознательным», а может это развитие, которое только и возможно воспринять на нашем уровне?
Создание национального государства турков, смена алфавита, победа после мировой войны идеологии либерализма и советская эпоха разъединили тюркские народы максимально. Идеология взяла верх как в международных отношениях, так и во внутренней политике большинства стран. Об этом говорит не только европейская пропаганда либерализма, но и большее, чем раньше, внимание к религии в консервативных обществах Востока. Однако расовая близость, на наш взгляд, остаётся константой. Экономические «дивиденды» изучения «кровного родства» тюркских народов связаны не только с изданием «смежной» литературы, но и с национальной идеей, знанием общих корней, что раскрывает для нас новые смыслы традиционной культуры, знание которых скрепляет нас с нашим окружением, создавая парадигму развития на долговременный период.
-
1. Akçura Yu. Muasır Avrupaʼda Siyasî ve İçtimaî Fikir Cereyanları. Istanbul, 1923 (2 baski: 2004).
-
2. Akçura Yu. Osmanlı Devletiʼnin Dağilma Devri (XVIII ve XIX. Asirlarda). Ankara, 1988.
-
3. Akçura Yu. Rus ihtilalene dair // Eski Şurayı Ümmet'te Çıkan Makalelerim. Istanbul, 1912 (1329). S. 48—60.
-
4. Akçura Yu. Şark meselesine Ait Tarih Notalari.
-
5. Akçura Yu. Şark meselesine dair // Eski Şurayı
Ümmet'te Çıkan Makalelerim. Istanbul, 1912
Istanbul, 1920 (1336).
-
(1329) . S. 25—42.
-
6. Akçura Yu. Siyaset ve İktisat Hakkinda Birkaç
Hitabe ve Makale. Istanbul, 1924.
-
7. Akçura Yu. Üç Tarz-ı Siyaset. Istanbul, 1976.
-
8. Akçura Yu. Üç Tarz-ı Siyaset // Çakmak O. Yűcel A. Yusuf Akçura. Ankara, 2002. S. 67—89.
-
9. Berkes N. Unutulan adam // Çakmak O. Yűcel A. Yusuf Akçura. Ankara, 2002. S. 55—66.
-
10. Jorjon F. Tōrek millătçelege tamırları: Yosıf Aqçura (1876—1935). Qazan, 2003.
-
11. Wilkinson D. World-Economic Theories and Problems. Quigley vs Wallerstein vs Central Civilization // Journal of World-System Research, vol. 2, is. 1, 1996. URL: wp-content/uploads/
2013/05/Wilkinson2-v2n1.pdf (дата обращения: 29.07.2015).
-
12. Акчура Й. Гөлүм вә тарих // Сайланма әсәрләр. Казан, 2011. Б. 594—623.
-
13. Петров А. В. Мир-экономика в социологических концепциях Ф. Броделя и И. Валлерстайна // Семинар молодых экономистов. 1998. Вып. 6. С. 62—76. URL: smpanel.pu.ru/panel/users/apetrov /710.pdf (дата обращения: 29.07.2015).
-
14. Финкель К. История Османской империи. Видение Османа. М. : АСТ, 2010.
* * *
Список литературы Юсуф Акчура между "Экономизмом" И "Национализмом"
- Akçura Yu. Muasir Avrupa'da Siyasî ve içtimaî Fikir Cereyanlari. Istanbul, 1923 (2 baski: 2004).
- Akçura Yu. Osmanli Devleti'nin Dagilma Devri (XVIII ve XIX. Asirlarda). Ankara, 1988.
- Akçura Yu. Rus ihtilalene dair//Eski Çurayi Ümmet'te Çikan Makalelerim. Istanbul, 1912 (1329). S. 48-60.
- Akçura Yu. Çark meselesine Ait Tarih Notalari. Istanbul, 1920 (1336).
- Akçura Yu. Çark meselesine dair//Eski Çurayi Ümmet'te Çikan Makalelerim. Istanbul, 1912 (1329). S. 25-42.
- Akçura Yu. Siyaset ve iktisat Hakkinda Birkaç Hitabe ve Makale. Istanbul, 1924.
- Akçura Yu. Üç Tarz-i Siyaset. Istanbul, 1976.
- Akçura Yu. Üç Tarz-i Siyaset//Çakmak О. Yücel A. Yusuf Akçura. Ankara, 2002. S. 67-89.
- Berkes N. Unutulan adam//Çakmak О. Yücel A. Yusuf Akçura. Ankara, 2002. S. 55-66.
- Jorjon F. Törek millatçelege tamirlari: Yosif Aqçura (1876-1935). Qazan, 2003.
- Wilkinson D. World-Economic Theories and Problems. Quigley vs Wallerstein vs Central Civilization//Journal of World-System Research, vol. 2, is. 1, 1996. URL: wp-content/uploads/2013/05/Wilkinson2-v2nl.pdf (дата обращения: 29.07.2015).
- Акчура Й. Гелум вэ тарих//Сайланма эсэрлэр. Казан, 2011. Б. 594-623.
- Петров А. В. Мир-экономика в социологических концепциях Ф. Броделя и И. Валлерстайна//Семинар молодых экономистов. 1998. Вып. 6. С. 62-76. URL: smpanel.pu.ru/panel/users/apetrov/710.pdf (дата обращения: 29.07.2015).
- ФинкельК. История Османской империи. Видение Османа. М.: ACT, 2010.