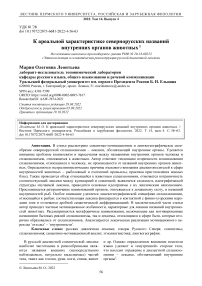К ареальной характеристике севернорусских названий внутренних органов животных
Автор: Леонтьева Мария Олеговна
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Язык, культура, общество
Статья в выпуске: 4 т.14, 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрено семантико-мотивационное и лингвогеографическое своеобразие севернорусской спланхнонимии - лексики, обозначающей внутренние органы. Уделяется внимание проблеме взаимосвязи и пересечения между названиями внутренних органов человека и спланхнонимов, относящихся к животным. Автор отмечает тенденцию вторичности возникновения спланхнонимов, относящихся к человеку, их производности от названий внутренних органов животных. Определяются экстралингвистические причины языкового внимания диалектоносителей к сфере внутренностей животных - рыболовный и охотничий промыслы, практика приготовления мясных блюд. Также проводится обзор относящейся к животным спланхнонимии, отмечается пограничность соответствующей лексики между кулинарией и соматикой; выявляется сложность идеографической структуры изучаемой лексики, приводятся основные идеограммы с их лексическим наполнением. Прослеживается разграничение наименований органов, относящихся к домашнему скоту, и названий внутренностей рыб. Особое внимание уделяется лингвогеографической специфике спланхнонимии, относящейся к рыбам: соответствующая лексика фиксируется в контактной с финно-угорскими народами зоне и отличается дробной семантической дифференциацией. В заключительной части статьи автор приводит частные мотивационные особенности, характерные для лексики названий внутренностей животных. Рассматриваются метафоричные наименования, включающие как мотивированные названиями бытовых реалий спланхнонимы, так и лексемы, относящиеся к сфере быта, которые вторично образовались от спланхнонимов. Анализируется лексическая реализация мотивационного перехода ‘отходы’ - ‘внутренности’.
Русская диалектная лексика, говоры русского севера, соматизмы, спланхнонимия, семантико-мотивационный анализ, этнолингвистика, лингвогеография
Короткий адрес: https://sciup.org/147239290
IDR: 147239290 | УДК: 81’28 | DOI: 10.17072/2073-6681-2022-4-56-63
Текст научной статьи К ареальной характеристике севернорусских названий внутренних органов животных
Говоря об обстоятельствах возникновения спланхнонимов, следует отметить определенные номинативные трудности – невозможность наблюдения за внутренними органами и их непосредственным функционированием. По этой причине спланхнонимы, которые могут быть применимы к человеку, не отличаются многообразием и регулярно пересекаются с общенародными (литературными) названиями внутренностей. По данным севернорусских говоров (архангельских, вологодских и костромских), номинируются следующие органы: желудок (арх., влг. брюши́на, арх. брюши́нка (СВГ 1: 46; СРГК 1: 126; АОС 2: 148), арх. брюшко́ (АОС 2: 149), арх. желу́ток (АОС 13: 294), арх. жо́рново (АОС 14: 320), арх., влг. тре́бух (СВГ 11: 53), влг. требу-ши́на (Дилакторский: 509)), печень (влг., костр. синё́к, сенё́к (КСГРС; ЛКТЭ), влг. ма́кса (СРГК 3: 188)), селезёнка (арх. псе́нь, влг., костр. се́нек, костр. синё́к, влг. челезё́нка (КСГРС; ЛКТЭ), влг. се́лезень (СРГК 6: 51)) и кишечник (брюхови́ца (СВГ 1: 46)). Диалектные обозначения приобретают также внутренности в обобщенном, собирательном понимании – как правило, это органы брюшной полости без внутренней дифференциации (арх. брюши́на (АОС 2: 147), арх. черё́во (КСГРС), арх. мутро́ (СГРС 7: 371), костр. ну́тренности (ЛКТЭ). Единожды фиксируется влг. расте́ние ‘любой отдельно взятый орган’: Есть растения другие: почки, печень, кишки, лёгкие (КСГРС). Среди представленных лексем фонетические, словообразовательные и семантико-словообразовательные варианты общенародных слов – такие как мутро, нутренности, челе-зёнка, требух, требушина – преобладают над собственно лексическими диалектизмами. Контексты употребления лексем нередко демонстрируют возможность применения не только к человеку, но и к животным: Сенёк у человека, у собаки, у рыбы. В книгах “печень”, а по-простому “сенёк” (костр.) (ЛКТЭ); У налима макса есть, у всех рыб есть макса, человек тоже без максы не живет (влг.) (СРГК 3: 188). Прослеживается определённая закономерность: регулярно номинируются в первую очередь брюшные органы, в то время как органы дыхательной и сердечнососудистой систем практически не получают наименований. В названиях органов животных, как будет видно в дальнейшем изложении, прослеживается та же семантическая закономерность, при этом спланхнонимов, относящихся к животным, фиксируется намного больше, чем у человека. Таким образом, названия брюшных органов человека и животных в русских говорах представляют собой богатую и сложно организованную лексическую систему, заслуживающую пристального внимания исследователей; важнейшей работой, объектом изучения которой становится эта система, является монография В. Ушинскене [Ушинскене 2012], посвященная анализу названий брюшных органов с точки зрения семантики, словообразования, мотивации, этимологии и истории народной терминологии.
Спланхнонимы, которые применяются к человеку, находятся в очевидном взаимодействии с лексикой внутренних органов животных. Спланхнонимы, относящиеся к скоту, птицам и рыбам, не только заметно превосходят по количеству названия внутренностей человека, но и обладают более сложной и дробной идеографической организацией. У человека, который непосредственно взаимодействует с внутренностями убитых животных, занимаясь охотой, ловлей рыбы, скотоводством, приготовлением пищи, возникает закономерная потребность эти внутренности обозначить. Названия внутренних органов человека довольно часто вторичны, будучи обусловленными развитием значения спланхнони-мов, относящихся к животным. Так, семантически относящиеся к телу человека влг., костр. се́нек ‘селезёнка’, синё́к , сенё́к , ма́кса ‘печень’, влг. брюхови́ца ‘кишечник’, влг. арх. черё́во ‘внутренности’ первично обозначают органы животных. Такое направление семантической деривации может подтверждаться количественным сопоставлением значений (в том числе контекстуальных): для черё́во существенно преобладают контексты, применяемые к животным и описывающие ситуацию разделывания туши: У коровы, у телёнка, у рыбы черёво назовём (арх.); Черёво выбрасываем кошке, но и поросёнку варить полезно (арх.) (КСГРС). Имеет значение и территориальное распространение производного и производящего значений, ср.: влг. брюхови́ца ‘кишки’ (в применении к человеку: Я думала, и брюховица-то вывалится ) (СВГ 1: 46) при костр., иван., влг., арх. брюхови́ца ‘потроха животного, употребляемые в пищу’ (СРНГ 1: 225). Наконец, первичная применимость спланхнонимов именно к животным подтверждается их мотивационной реконструкцией. Так, влг., костр. се́нек ‘селезёнка’, сенё́к , синёк ‘печень’ сопоставимы с арх., влг. псе́нь ‘печень (чаще у рыбы)’ (КСГРС; Дилакторский: 420); кольск. ксе́нь , ксеньё́ ‘внутренности рыбы, рыбьи потроха’ (СРНГ 15: 373); том. иксе́нь ʻпечень налимаʼ (СРНГ 12: 183) и др. По одной из версий о происхождении этого слова (позднее мы еще вернемся к этому вопросу), приведенные названия брюшных внутренностей восходят к прасл. * kъsenь ‘внутренности (рыбы)’ из * kysati ‘киснуть’ [Ушинскене 2012: 70]. В данном случае мотивирующая основа описывает орган через его нахождение вне живого организма, что характерно для восприятия внутренностей убитого животного.
Вторичность обозначений внутренностей человека характерна не только для говоров, но и для литературного языка, в котором этимология некоторых названий внутренностей показывает первоначальную связь именно с органами животных, воспринимаемыми вне живого тела: например, cлова кишки , кишечник восходят к прасл. * kysnǫti (рус. киснуть ), соответственно, обозначаемый орган первоначально – «прокисающая внутренность» [ТСлРЯ: 337; Ушинскене 2012: 70]. Показательно также название лёгкие , которое обусловлено тем, что орган при погружении в воду, будучи «лёгким», всплывает на поверхность, не тонет3 (ТСлРЯ: 405).
Перенос названий органов животных на тело человека в некоторых случаях сопровождается передачей особой экспрессии. Наблюдается регулярный переход ‘внутренность животного’ > ‘живот человека (вместилище органов)’. Ср. влг. кузови́ца ‘внутренности животного’ > ‘большой живот’: Режут скотину – хотя барана, хотя овцу. Шкуру сняли, а живот и есь кузовица, ку-зовицу-ту вываливают. О человеке так не говорят, толькё в шутку: “Ой, у тебя такая кузови-ца!” (влг.) (СГРС 6: 226); костр. брюхови́на , брю-хови́ца , влг. бачи́на ‘желудок животного’ > ‘большой живот’: Брюховину такую оттоила < отто́ить ‘отрастить’> (костр.); Раздобреу как – бачину наел ; Или вон у коровы бачину цистят (влг.) (ЛКТЭ; СГРС 1: 82). Приведенные выше контексты показывают, что толстый живот получает пейоративные наименования за счёт актуализации функции пищеварения брюшных органов, ср. также арх. литоха́ ‘обжора’ при первичном значении ‘внутренности скота’ (СГРС 7: 107). Показательно, что из всех брюшных органов человека наибольшее количество обозначений получает желудок (приводимые выше брю-ши́на , брюшко́ , желу́ток , жо́рново , тре́бух , тре-буши́на ), так как, по-видимому, этот орган в народном сознании воспринимается как вместилище пищи: Ишь ты, требуши́ну-то набил! (влг.) (Дилакторский: 509); Старались только на брюшину, где уж об одежке думать было (арх.) (СРГК 1: 126), ср. литер. наполнить / набить желудок . Однако помимо функции «поглощения» пищи не последнюю роль играет и болезненность этого органа: Брюши́на болит, много ягод съела (влг.) (СВГ 1: 46).
Таким образом, в этой статье мы обратимся к обозначениям брюшных внутренних органов животных. Значимость для диалектоносителей внутренностей скота, рыб и птиц объясняется традициями приготовления частей туш животных в качестве кушанья (употребляемых в пищу субпродуктов). Эти внутренности находятся в пограничной зоне между соматикой и кулинарией. Многие севернорусские названия приготов- ленной пищи дублируют обозначения частей животных, для которых определяется семантикомотивационная модель ‘внутренний орган’ > ‘блюдо из него’ [Осипова 2020а: 60, 61]. В подавляющем большинстве контекстов с диалектными спланхнонимами разворачивается ситуация разделывания туши животного с последующим приготовлением выпотрошенных внутренностей: Как зарежут скотину, баци́ну <желудок> вывалят. Ели бацину-то, варили (влг.); Ливера <внутренности рыбы> у налима тоже жарят (влг.); Поросёнка зарезали, каю́к <свиной желудок> начинила сухомесом» (влг.) (СГРС 1: 82; 5: 112; 7: 90). Контексты, в которых описывается функционирующий в живом организме орган, встречаются, но довольно редко: Сразу за-глатыват траву, а потом в брюшине <желудок> пережевывает (арх.) (АОС 2: 147). Некоторые диалектизмы в своей внутренней форме отражают способ приготовления потрохов животных, например, влг. начинёхи, начи́нки ‘праздничное блюдо из свиных кишок, начиненных крупой’ < начинять (СВГ 5: 84); ср. вятск. варе́нье ‘внутренности’ < варить (Зеленин 1903: 31). В то же время наивным сознанием выделяются и малосъедобные внутренности, идущие на выброс (такие как селезёнка и некоторые части кишечника) в силу необходимости отделить их (в том числе на языковом уровне) от внутренностей, идущих в пищу: Это вы́борок, то погано, есть не вкусно (АОС 6: 108); Скотину разделываешь – ку́кшу <несъедобные внутренности, обычно – часть кишечника> вытаскиваешь, ныне выбрасываем её (влг.) (СГРС 6: 241–242); Её не кушают, её срезали, челезё́нку <селезёнку> (влг.) (КСГРС). Наблюдается лексическое противопоставление съедобных и несъедобных внутренностей: Лёгкие, сердце и печень гусяк называют, а остальное всё – черёва (арх.) (СГРС 3: 171).
При рассмотрении названий внутренних органов животных обнаруживается не только лексическое многообразие, но и довольно сложная идеографическая структура, основанная на разных вариантах семантической дифференциации названий внутренних органов. Некоторые обозначения внутренних органов закреплены за определенным видом животного или за выделяемой наивным сознанием группой животных (например, скот): ср. костр. бу́тор ‘внутренности скота’ (ЛКТЭ), арх. буса́к ‘потроха овцы’ (АОС 2: 185), арх. ли́тоха́ ‘внутренности скота’, арх. литоха́ ‘отдел желудка коровы, книжка’ (СГРС 7: 107), арх. гра́мотица, грамоте́я, гра́мотница ‘желудок жвачных животных’ (АОС 10: 24, 25), костр. борохови́ца ‘желудок жвачных животных’ [Ганцовская 2015: 30], арх. бахторма́ ‘внутренняя поверхность желудка животного’ (АОС 1: 133), влг. каю́ к ‘свиной желудок’ (СГРС 5: 112), влг. ливера́, ля́дога, арх., влг. ма́кса́, арх. черё́во, черё́ва ‘внутренности рыбы’ (СГРС 7: 90, 203, 223; КСГРС), арх. ле́дюга ‘рыбьи потроха (кроме икры и молок)’ (СГРС 7: 53), арх. ки́шки, влг. ку́кша ‘несъедобные внутренности рыбы’ (СГРС 5: 161; 6: 241–242). Подобная дифференциация наблюдается и на текстовом уровне: У скота литоха, а у рыб черёва (о внутренностях) (арх.) (СГРС 7: 107).
Представленные спланхнонимы демонстрируют разделение наивным сознанием внутренностей скота и внутренностей рыб, что, по-видимому, связано с разницей в практиках разделывания и приготовления в качестве пищи частей разных видов животных. Кроме того, имеет значение и культурная составляющая: необходимо отметить разное отношение к блюдам из рыбы и блюдам из мяса животных, которые разграничиваются наивным сознанием как постная и скоромная пища: если в пост употреблять мясо животных категорически запрещалось, то принимать в качестве пищи рыбу допускалось, к примеру, на большие праздники в течение поста (CД 4: 203)4. Внутренности птиц в севернорусских говорах практически не дифференцируются, для них не обнаруживается особых наименований. Возможную причину следует видеть в том, что мясо домашней птицы в северной зоне, по замечанию К. В. Осиповой, ели гораздо реже, чем в центральных и южных областях России [Осипова 2020б: 314]. Закономерно в среднерусских и южнорусских говорах, в отличие от севернорусских, находим, к примеру, вятск. же-лу́дки ‘птичьи потроха’ (СРНГ 8: 119), брянск. во́ля ‘мускулистый желудок птицы’, брянск. пад-ро́бки ‘потроха, главным образом гуся или утки’ (СНГЗБ: 67, 185), оренб. по́чка ‘желудок у птиц’ (ООС: 137). В севернорусских говорах вместо этого богато представлена «рыбная» спланхно-нимия (для соответствующих лексем, которые приводятся ниже, уточним районную атрибуцию, так как для них присуща ареальная специфика). Помимо упомянутой выше идеограммы ‘внутренности рыбы’ (арх. (плес.) ле́дюга , влг. (сок.) ливера́ , влг. (вож., кир.) ля́дога , арх. (повсем.), арх. (вель., вин., в-т., карг., к-б., кон., леш., мез., нянд., он., пин., прим., уст., холм., шенк.), влг. (бел., в-важ., вож., кир.), ма́кса́ , арх. (онеж.), арх. (карг.) ня́вга , арх. (онеж.) ра́вушка , арх. (повсем.) черё́во , черё́ва , арх. (карг.) ки́шки (СГРС 5: 161; 6: 241–242; 7: 53, 90, 203, 223; СРГК 5: 59, 389; КСГРС)), фиксируется ряд уточняющих значений: ‘печень рыбы’ (арх. (вель., вин., в-т., карг., к-б., кон., котл., леш., мез., нянд., он., пин., плес., прим., с-двин., уст., холм., шенк.), влг. (бел., ваш., в-важ., влгд., вож., выт., кир., у-куб.) ма́кса́ (реже имеет значение ‘печень животного’), арх. (плес.) мако́ска , влг. (вож., кир.) ля́дога (СГРС 7:
203, 223; СРГК 3: 188), арх. (вил., к-б., котл., лен.) псе́нь , влг. (в-уст.) псенё́к (КСГРС]), ‘желудок рыбы’ (влг. (вож., кир.) ля́дога (СГРС 7: 203)) ‘кишечник рыбы’ (арх. (онеж.) черва́ (СРГК 6: 769)), ‘икряной мешок рыбы’ (влг. (вож.) ку́дыш (СГРС 6: 223)), ‘желчный пузырь рыбы’ (арх. (карг.) жё́лудь (СРГК 3: 48)), ‘лёгкие рыбы’ (арх. (к-б.) псе́нь (КСГРС)). Встречаются даже специализированные значения, уточняющие вид рыбы. Это влг. (выт.) ко́кеш (СГРС 5: 221), влг. (выт.) пу́кша ‘желудок налима’ (КСГРС) влг. (гряз.) сеньки́ ‘потроха налима’ (Дилакторский: 454), арх. (он., плес., прим., мез.) во́якса , во́юкса во́екса (АОС 5: 138; СГРС 7: 142, 195), арх. (помор.) ба́лка ‘печень трески’ (СРНГ 1: 82). Указание на конкретный вид рыбы может быть актуализирован в производных от спланхнонимов словах, например, влг. (выт.) максани́на ‘фарш из печени налима’ (СГРС 7: 223).
В особенности ярко проявляется лексикосемантическая дифференциация органов разных видов рыб, во-первых, в регионе архангельского Беломорья, во-вторых, на территории Белозерья, к которой относят Бабаевский, Белозерский, Вашкинский, Вожегодский, Вытегорский, Ка-дуйский, Кирилловский, Череповеций и Шекс-нинский районы Вологодской области, а также Каргопольский и Коношский районы Архангельской области [Макарова 2013: 5]. Белозерье располагается между четырьмя крупнейшими озёрами (Онежское, Белое, Воже, Лача), и на этой территории «озёрная» тема (и, как следствие, рыболовная) очень значима в народной традиции [там же: 10–11]. Белозерье является уникальной зоной не только в природном, но и в языковом отношении: это один из наиболее ранних ареалов финно-угорского заселения [там же: 6–7]. Соответственно, если обратиться к проблеме происхождения диалектизмов на этой территории, обнаруживается заметное влияние финно-угорских языков: субстратные формы (такие как макса , воякса , лядога ) оказываются востребованными для заполнения специфических идеограмм вроде ‘внутренности рыбы’, ‘печень рыбы’, ‘желудок налима’. При этом спланхнонимический материал демонстрирует, что в дифференциации по видам рыб на территории архангельского Беломо-рья особо выделяется треска, в то время как в Белозерье, главным образом, – налим.
Взаимодействие русскоязычного населения и финно-угорского субстрата этих территорий обусловливает множественность этимологических версий для некоторых спланхнонимов. Например, влг. (вож.) ку́кша ‘несъедобные внутренности: часть кишечника’ (СГРС 6: 241–242), как и более широкое олон., карел. ку́кша ‘рыбьи потроха’, с одной стороны, трактуется как про- изводное от слав. *kukati ‘бить’, в мотивационном отношении – ‘то, что выбивается’ (ср. требуха, по одной из версий происхождения, от теребить), ср. с аналогичной мотивацией избо́й, вы́порок ‘внутренности’ [Ушинскене 2012: 77]; с другой стороны, кукша сравнивается с фин. kupsu ‘рыбий пузырь’ эст. kops, kopso ‘лёгкие’ и, соответственно, трактуется как заимствование (Фасмер 2: 408; РДЭС: 368); родственным является, по-видимому, и влг. (выт.) пу́кша ‘желудок налима’ (КСГРС), неотделимое от карел. пу́кша ‘икра рыбы’, которое С. А. Мызников соотносит с рассмотренным выше ку́кша, указывая на характерную мену начального к/п (РДЭС: 634). Эту же фонетическую особенность следует предполагать у арх. (вил., к-б., конд., лен.) псе́нь ‘печень (чаще у рыбы)’ (КСГРС) и кольск. ксе́нь, ксеньё́ ‘внутренности рыбы, рыбьи потроха’ (СРНГ 15: 373). Варианты с начальным к- рассматриваются С. А. Мызниковым вместе с карел., мурм. се́нь ‘рыбьи внутренности’ (варианты с начальным п при этом не представлены): предполагается, что варианты с начальным к (типа ксень) первичны и, вероятно, являются исконными (праславян-скими) по происхождению; варианты без начального к (типа сень) вторичны и возникли в результате контаминации с прибалтийско-финскими данными, ср. фин. syän ‘сердце’, кар. šeän, šiän, siän ‘сердце, внутренности’ (РДЭС: 730). В. Ушинскене также в качестве базового выделяет вариант ксень и, приводя параллели из славянских языков, предлагает в качестве праславян-ского этимона *kysati ‘киснуть’; лексема псень объясняется либо как вторичный фонетический вариант к ксень, либо как самостоятельное образование от диал. псить, псеть ‘делаться вонючим; вонять псиной’ [Ушинскене 2012: 70, 104– 105, 108]. Таким образом, проблему происхождения спланхнонимов ксень, сень, псень и их вариантов, как и проблему контаминационных процессов между ними, нельзя назвать окончательно решенной. Версия исконного происхождения вполне убедительна, хотя и возможность финноугорского влияния подтверждается фиксацией лексем в контактной зоне – в архангельской, мурманской и карельской областях. В качестве небольшого дополнения укажем, что некоторые варианты без начального к и п, в особенности костр. сенё́к, синё́к ‘селезёнка’, допустимо трактовать как результат упрощения группы согласных с притяжением к синий, что обусловлено синеватым оттенком селезёнки, показателен контекст: Синёк язычком таким, синий действительно (костр.) (ЛКТЭ). Ср. оренб. синя́к ‘печень, воловья печенка’ (Даль 4: 187). Контаминация прослеживается также в арх. (шенк.) ма́ксень ‘печень рыбы’ (СГРС 7: 224), объединяющем в своей внутренней форме ксень и фин- но-угорский по происхождению спланхноним ма́кса (см. о нем ниже).
Взаимодействие между русским и финноугорскими языками на территории Белозерья и Поморья прослеживается также на семантическом уровне. Относящееся к этой зоне слово ма́кса́ ‘рыбьи внутренности’, ‘печень рыбы (реже – печень животного)’, согласно словарю С. А. Мызникова (РДЭС: 478) имеет прибалтийско-финское происхождение (ливв. maksu , вепс, maks , при кар. maksa , фин. maksa , эст. maks ) при этом автор словаря уточняет, что значение в языках-источниках общее, гиперонимическое – ‘печень’; в то время как семантическая дифференциация развивается именно в русских говорах, см. об этом подробнее в (РДЭС: 477–478). Подобное развитие значения от общего к специализированному наблюдаем в во́екса / во́якса ‘печень трески’, которое сопоставляется с саам, vuoija , vuij ‘жир, растопленный или приготовленный’, vuivas ‘печень’, саам. швед, vuajja ‘жир’ и т. п. (там же: 144).
В заключение отметим некоторые мотивационные особенности в исконных обозначениях внутренних органов. Любопытны случаи метафорического переноса (по внешнему сходству), которые встречаются при обозначении некоторых внутренностей, ср. арх. жё́лудь ‘желчный пузырь рыбы’ (СРГК 3: 48), арх. бахторма́ ‘внутренняя поверхность желудка животного’ при значении ‘бахрома’ (АОС 1: 133)). В целом отделы желудка жвачных за счёт своего специфического внешнего вида имеют тенденцию к метафорическому номинированию, ярким примером является общенародное книжка , основанное на сходстве продольных складок третьего отдела желудка с листами в книге; эта метафора, по-видимому, получает продолжение в арх. гра́мотица , грамоте́я , гра́мотница ‘желудок жвачных животных’ (АОС 10: 24, 25), которые, вероятно, первоначально обозначали именно книжку (отдел желудка) и могли быть мотивированы диалектизмами типа север. гра́мотица ‘лист бумаги’ (СРНГ 7: 111), арх. гра́мотка ‘письмо’ (АОС 10: 24). Возможны при этом обратные метафоры – при обозначении бытовых реалий на базе спланхнонимов, ср. влг. брюхо-ви́на , брюши́нка ‘вафельное полотенце’ (< ‘внутренности животных – часть желудка’) (СГРС 1: 194) – данная метафора основана на сходстве пористой структуры вафельного полотенца и части желудка (вероятно, его второго отдела – сетки). Приведённые языковые факты демонстрируют значимость внешних проявлений органов вне живого организма.
Отдельно следует отметить семантический переход ‘отходы’ > ‘внутренности’, который, по замечанию К. В. Осиповой, обусловлен практи- кой отделения для собственного пропитания «остатков» мяса, т. е. субпродуктов (в то время как настоящее мясо сдавалось государству), ср. арх. ме́лузь < шир. распр. ме́лузь ‘отходы от об-молота’5 [Осипова 2020а: 60]. В качестве мотивационной параллели следует привести влг. ошу́рки ‘кишки’ (СВГ 6: 115) < шир. распр. ошу́рки ‘остатки пищи, объедки’ (БАС 8: 1830). Подобную мотивационную линию следует выделять для влг. буса́к ‘внутренности’ (СГРС 1: 226), трактуемого А. Е. Аникиным как родственное калуж. бýсор ‘требуха’, астрах., тамб. бýсор, бýсырь ‘хлам, барахло’; эти лексемы, возможно, наряду с мýсор, заимствованы из тюрк. *büsr-//*müsr- (Аникин 5: 204). Добавим к этому следующее замечание: буса́к, возможно, следует трактовать как контаминацию описанного выше бусор и гуса́к ‘лёгкие, сердце и печень животного’ – последнее мотивировано сходством с летящим гусем (Фасмер 1: 477). Допускается обратный переход (‘внутренности’ > ‘отходы’) в арх. кишки́ ‘мусор в льняной кудели’ и влг. ки́шки ‘грубая пряжа из льняных отходов’ (СГРС 5: 161).
Общий обзор севернорусских спланхнонимов, предлагаемый в настоящей работе, призван обозначить некоторые особенности рассматриваемой лексики в семантико-мотивационном, этимологическом и лингвогеографическом отношении. Отмечается необходимость в более углубленном анализе номинативных характеристик диалектных спланхнонимов. Соответствующую цель мы ставим перед собой в дальнейших работах по этой теме.
Примечания
-
1 Автор выражает благодарность Татьяне Владимировне Шалаевой за ценные советы и указание на важный источник для настоящей статьи.
-
2 В настоящей статье мы используем термины спланхноним , спланхнонимия (из древнегреч. σπλάγχνον ‘внутренность’ и ὄνομα ‘имя, название’) в силу необходимости обозначить понятия ‘название внутреннего(-их) органа(-ов)’, ‘лексика, обозначающая внутренние органы’. Такие термины в силу своей специфичности употребляются редко, но тем не менее используются в ряде научных трудов по лингвистике, см., к примеру: [Ракин 1997; Персидская 2018; Субраков 2019].
-
3 Примечательны мотивационные параллели к литературному слову лёгкие . Смол. ре́йка ‘лёгкое с сердцем и печенью’, согласно И. П. Петлевой, восходит к прасл. * rĕjati ( sę ) ‘двигаться (плавно, легко, быстро) в воде или в воздухе’ и, соответственно, его мотивационное значение ‘то, что имеет малый вес и потому всплывает в воде (в супе)’. Та же самая «всплывающая» мотивация наблюдается в др.-русск. плюча ‘лёгкие’, которое
является производным от * pluti /* plyti (др.-русск. плути , русск. плыть ) [Петлева 1975: 43–44].
-
4 О реализации оппозиции «постное» – «скоромное» в традиционной народной культуре см., к примеру: [Толстая 2002; Якушкина 2002].
-
5 В. Ушинскене для ме́лузь в качестве мотивирующего значения выделяет ‘мелкие предметы, мелочь’ с переходом в ‘мелкие внутренности животного’ [Ушинскене 2012: 65].
Список литературы К ареальной характеристике севернорусских названий внутренних органов животных
- Макарова А. А. Русская озерная гидронимия Белозерья: системно-функциональный аспект: дис.. канд. филол. наук. Екатеринбург, 2013. 763 с.
- Осипова К. В. К семантико-мотивационной реконструкции севернорусских названий блюд из мяса // Вестник Пермского государственного университета. Российская и зарубежная филология. 2020а. Т. 12, № 3. С. 59-69. 10.17072/ 2073-6681-2020-3-59-69.
- Осипова К. В. Мясо в рационе севернорусских крестьян: этнолингвистический аспект // Сибирский филологический журнал. 2020б. № 4. С. 308-321.
- Персидская А. С. Соматическая лексика селькупского языка: структурно-семантический и лингвокультурологический анализ: дис. канд. филол. наук. Томск, 2018. 243 с.
- Петлева И. П. Этимологические заметки по славянской лексике. VI // Этимология. М.: Наука, 1975. С. 42-51.
- Ракин А. Н. Антропотоминимическая лексика в пермских языках: автореф. дис.. д-ра филол. наук. Йошкар-Ола, 1997. 66 с.
- Субраков А. Д. Спланхнонимическая лексика современного хакасского языка // Современный ученый. 2019. № 4. С. 266-270.
- Толстая С. М. Оппозиция "постный-скоромный" в свете диалектной семантики // Русская диалектная этимология: материалы IV Между-нар. науч. конф. Екатеринбург: Изд-во Урал. унта, 2002. С.128-132.
- Ушинскене В. Народная анатомическая терминология в русском языке. Словообразовательная и семантическая реконструкция наименований брюшных органов. Вильнюс: Вильнюс. ун-т, 2012. 162 с.
- Якушкина Е. И. Диалектные названия скоромной и постной пищи и их вторичные значения // Русская диалектная этимология: материалы IV Междунар. науч. конф. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2002. С. 132-135.