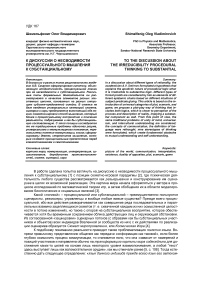К дискуссии о несводимости процессуального мышления к субстанциальному
Автор: Шимельфениг Олег Владимирович
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 10, 2020 года.
Бесплатный доступ
В дискуссии о разных типах рациональности академик А.В. Смирнов сформулировал гипотезу, объясняющую аподиктичность процессуальной логики при ее несводимости к субстанциальной. Различные типы формальных доказательств он рассматривает в качестве элементов разных эпистемных цепочек, основанных на разных интуициях субъект-предикатной склейки. В статье на базе введения универсальных категорий сюжета, сценария и игры предлагается включающий обе логики сюжетно-игровой способ мышления, который ближе к процессуальному восприятию и описанию реальности, подразумевая и как бы субстанциальную составляющую. С этой позиции исследуются те же традиционные проблемы единства разума, универсализма и межкультурного понимания; переосмыслены понятия коммуникации, языка; сформулированы девять стереотипов мышления, которые создают принципиальные препятствия перед взаимопониманием и самопониманием.
Картина мира, коммуникация, интерпретация, существование, двуединство противоположностей, сюжет, сценарий, игра
Короткий адрес: https://sciup.org/149134713
IDR: 149134713 | УДК: 167 | DOI: 10.24158/fik.2020.10.6
Текст научной статьи К дискуссии о несводимости процессуального мышления к субстанциальному
К подобному пониманию реальности приводит также проблематизация понятия языка. Вопреки привычному представлению общения как передачи «информации как таковой», если более глубоко осмыслить процесс коммуникации, то становится ясно, что она «зависит от намерений и позиций участников и направлена обычно на трансформацию картины мира собеседника для достижения каких-то целей на основе лишь некоторого уровня взаимопонимания, а любой “текст” здесь выступает лишь как вспомогательное орудие», как мы отмечали ранее [5, с. 106]. Тогда естественно дать следующее определение: «язык данного индивида прежде всего язык его автоком- муникации, т. е. это все те проявления целостной системы “индивид – среда”, которые сознательно используются индивидом для построения своей картины мира “индивид – среда” или ее фрагмента с целью воздействия на формирование картин мира других индивидов» [6, с. 107].
Простой пример из этологии. Возьмем «медведя, который старается как можно выше сделать метку когтями на дереве, т. е. “встает на цыпочки”. Это знак другому медведю о целом сюжете возможного жестокого боя за эту территорию с таким “громадным”, как он, соперником. Даже на таком простом языке уже можно “врать” – подставлять возможному потенциальному адресату искаженную в благоприятную для себя сторону картину мира. Сама же по себе царапина на дереве для большинства обитателей Земли никакой информации не несет, равно как и очень “мудрый” текст для множества людей, сами термины которого они могут толковать только в силу своего разумения» [7, с. 106]. «Эта смыслополагающая активность и есть наше мышление» (из комментария А.В. Смирнова к книге Ибн Араби [8, с. 69]), а для любого индивида она и есть конструирование целостного сюжета. Сначала целостность задается как «противоположения-и-объеди-нения на основе определенной интуиции», а на следующем этапе происходит упорядочение многообразных хаотических впечатлений в попытке «сгруппировать эти данные, скрепить их, привязав к чему-то устойчивому», давая «начало полаганию вещи как субъекта» [9, с. 69].
Это типичная ситуация, где «зашнуровываются» психические процессы по формированию возможного сценария деятельности с попытками их реализации в материальном мире, что соответствует кибернетической модели корректируемого с помощью обратной связи поведения любого существа. Приведем яркий пример из практики известного исследователя природы А.К. Арсеньева: «С первого взгляда я понял, в чем дело: медведь добывал мед. Он стоял на задних ногах и куда-то тянулся. Протиснуть лапу в дупло ему мешали камни. <…> …Он утомился, сел на землю по-человечески и, раскрыв рот, стал смотреть на дерево, видимо что-то соображая. Так просидел он минуты две. Затем вдруг поднялся, быстро подбежал к липе и полез на ее вершину. Взобравшись наверх, он протиснулся между скалой и деревом и, упершись передними и задними лапами в камни, начал сильно давить спиной в дерево. Дерево подалось немного. Но, видимо, у медведя заболела спина. Тогда медведь переменил положение и, упершись спиной в скалу, стал лапами давить на дерево. Липа затрещала и рухнула на землю. Этого и надо было медведю. Теперь оставалось только разобрать заболонь и добыть соты» [10, с. 32–33].
Медведь, конечно, не строил субъект-предикатные высказывания, но, сидя с раскрытым ртом, несомненно, разыгрывал возможные сценарии добычи вожделенного меда, оперируя своими образами «вещей»: дерева, скалы, дупла и себя, включая их в контекст выбранного, наконец, через две минуты сценария. Таким образом, «устойчивость субъекта оказывается закономерностью его отношения к другому: к его противоположности и к тому, что объединяет его с его противоположностью» [11, с. 70], т. е. в нашем случае – объединения медведя с деревом – скалой – медом в целостном сюжете добычи им меда.
Дискуссия в журнале «Вопросы философии» [12] ярко продемонстрировала « тройную проблему философской коммуникации » [13, с. 68–71], «состоящей из трех тяжелейших подпроблем: 1) сначала надо понять самого себя (весьма непростое со времен античности задание!) – свои, с рождения формируемые и уходящие в подсознание, установки, осознать свой язык автокоммуникации – чтó ты сам вкладываешь в ключевые для тебя термины и понятия… 2) попытаться сделать аналогичную работу за собеседника (!)… 3) построить сценарий, который хоть как-то создаст возможности передачи своего понимания мира другому человеку с учетом знания его языка и его представления о реальности. При этом употребляемые обоими слова и термины общего языка чаще всего будут искажать исходный смысл текста коммуниканта в восприятии другого, создавая иллюзию понимания, так как автоматически интерпретируются каждым в своей картине мира» [14, с. 68–71]. Именно поэтому У. Эко считает, что перевод – это процедура, которая проходит под знаком переговоров.
«…Как мы понимаем друг друга, несмотря на различие логик?… Но, во-первых, кто сказал, что понимаем? Наше обсуждение, похоже, дает примеры, довольно яркие, принципиального непонимания (“Процесс не может быть вещью!” “Мир не может состоять из процессов!” “Причинность должна быть понята только как необходимое и/или достаточное условие!” – это ли не непонимание?). И это самые простые, исходные предметы; что же говорить о сложных? Мы в лучшем случае можем общаться по поводу простейших вещей, связанных с внешним миром и ориентацией в нем» [15, с. 59].
Проблема взаимонепонимания универсальна. Конфликт и борьба различных групп за тотальное осуществление своих моноустановок (особенно учитывая ограниченность всевозможных ресурсов) при дальнейшем увеличении мощности вооружений, энергоемких производств и транспорта рано или поздно закончатся глобальной катастрофой, по сути, «Самоапокалипсисом» чело- вечества. Возможный выход из подобной ситуации – в осознанном глобальном управлении формированием индивидуальных и групповых картин мира и их постоянном мониторинге и согласовании, что становится все более реальным при современных средствах коммуникации. Однако, разумеется, к такой стратегии следует подходить сбалансированно, диалектично: еще в 90-е гг. прошлого столетия, когда только начала формироваться модель современной единой Европы, Ю.М. Лотман обратил внимание и на необходимость разнопонимания реальности для развития культуры, на необходимость чужого, инакомыслящего, иначе устроенного [16, с. 74].
Однако в дискуссиях и переговорах типичной является ситуация « порочного круга », который состоит в том, что каждый из нас готов воспринимать как весомый аргумент только те доводы, которые согласуются с собственными базовыми принципами об устройстве мира , во многом неосознаваемыми , которые, однако, властно диктуют интуитивное принятие или отторжение тех или иных обсуждаемых утверждений, что не дает возможность услышать и увидеть собственную позицию другого: «мы – в случае несовпадения логик – теряем адекватность и вчитываем в другого свою, а не его, логику» [17, с. 59]. Естественно, что при попытках трансляции непривычного представления о мире пришлось начать заниматься специально « Проблемой непонимания » [18]. К настоящему времени исследованы девять стереотипов мышления, которые создают принципиальные препятствия к взаимопониманию и самопониманию:
-
– автоматическое наложение на почти любую ситуацию «закона исключенного третьего» на основе неконтролируемого выбора всего лишь двух произвольно и бессознательно выхваченных альтернатив («Аристотель присутствует незримо в любом акте нашего зрительного восприятия» [19, с. 56]);
-
– вера в «объективную» истинность своей предпочитаемой альтернативы;
-
– неузнавание в чужой формулировке собственных идей;
-
– эффект невосприимчивости иного – «то, во что мы желаем верить, обычно принимается нами без объяснений; то, во что мы не хотим верить, обычно отвергается, несмотря на все имеющиеся подтверждения» [20, с. 242];
-
– синдром завышения степени взаимопонимания ввиду употребления одних и тех же слов без учета их индивидуальной интерпретации, на что обратил внимание А. фон Гумбольдт: «едва ли хотя одно слово разными лицами представляется одинаково»; «Каждый человек употребляет слово для выражения своей особенной личности: оно всегда истекает от отдельного лица и каждое лицо пользуется им, прежде всего, для самого себя»; «никто не думает при известном слове именно того, что другой» [21, с. 158, 179, 236];
-
– невидение тотальной процессуальности реальности прежде всего на уровне ежемгно-венного ее изменения, без которого не было бы изменений, уже заметных глазу в более продолжительные промежутки времени («До такой степени об этом не знает никто, да ведь человек и не чувствует в душе своей, что в каждом дыхании его нет, а затем он есть» [22, с. 230]);
-
– невидение связи мышления и реальности, которая осуществляется каждым существом посредством попыток реализации своих сценариев, в том числе автоматически без контроля сознания, что и формирует в целом Сюжет миропроявления;
-
– невидение двуединства противоположностей – того, что заметил еще Чжуан-цзы в IV в. до н. э.: тот, кто хочет иметь правильное без неправильного, порядок без хаоса, не понимает принципов неба и земли, он не знает, как вещи связаны друг с другом, т. е. что все антагонисты «растут» из общего корня – вечного игрового бинера : Всетворящая Пустота Единого – Космическая Игра Единого (двуединства [23, с. 504–509]);
-
– невидение органической тотальной взаимосвязанности всего в мире как со-участников ежемгновенно разворачивающегося сюжетно-сценарного потока Универсума, где иллюзия отдельных, «замороженных», субстанциальных объектов закрывает главное – Творящее Начало Вселенной – скрытую половину изначального и вечного игрового бинера .
Закончить этот анализ естественно предложением инициатора дискуссии: «Вот здесь, чтобы адекватность вернуть, надо распустить собственную логику до основания, до начала когнитивной цепочки и пройти те же шаги в обратном направлении по другой когнитивной цепи, оттолкнувшись от другой исходной интуиции субъект-предикатного склеивания» [24, с. 59].
Примененный здесь сюжетно-игровой подход показал полезность в инновационном управлении, политике, сфере образования – в конкретных организациях (производственных, общественных и учебных), решении этноконфессиональных проблем, создании и реализации проектов Академии проблем качества Российской Федерации [25]. Сюжетно-игровую парадигму можно «подключать» на уровне методологии и практики к любой картине мира и технологии, но, очевидно, наиболее органично и эффективно она вписывается (и тогда работает не только на физическом, биологическом, психологическом, социальном и подобных уровнях, но и на личностно-духовном) в традиционную концепцию никогда не формализуемого до конца Единого, ежемгновенно порождающего и уничтожающего весь мир преходящих материальных форм, что, разумеется, имеет экзистенциальный смысл лишь для определенного круга лиц, готовых к личностному восприятию именно таких описаний Единого и освоению соответствующих практик и стратегий поведения.
Таким образом, сюжетно-игровой способ мышления наряду с субстанциальным и процессуальным можно считать также организацией мышления, как то же иначе , в формулировке А.В. Смирнова, и он, очевидно, ближе к процессуальному восприятию реальности, подразумевая, конечно, и как бы субстанциальную составляющую.
Ссылки:
Редактор: Тюлюкова Мария Олеговна Переводчик: Кочетова Дарья Андреевна
Список литературы К дискуссии о несводимости процессуального мышления к субстанциальному
- Процессуальная логика и ее обоснование: раздел // Вопросы философии. 2019. № 2. С. 5-60
- Шимельфениг О.В. Живая Вселенная. Сюжетно-игровая картина мира. ХХI век: "Самозавет" или "Самоапокалипсис". Саратов, 2005. 688 с
- Шимельфениг О.В. Герменевтические и социальные аспекты знания с позиций сюжетного подхода // Проблемы социального управления: межвузовский научный сборник. Саратов, 2001. Вып. 2. С. 156-168
- Шимельфениг О.В. Проблемно-деловая игра в обучении руководителей // Frnivizujici problemove didakticke metody, simulace a hry v priprave a zdokonalovani pracovniku. Praha, 1990. P. 146-150
- Шимельфениг О.В. Социальное управление: древняя традиция и сюжетный подход // Проблемы социального управления: межвузовский научный сборник. Саратов, 2000. С. 103-116
- Шимельфениг О.В. Сюжетно-игровой подход и моделирование биосистем // Мировоззренческие и методологические вопросы современного научного познания: сборник. Саратов, 1985. С. 47-59
- Шимельфениг О.В. Сюжетно-игровой подход к моделированию сложных систем: монография. Саратов, 1983. 118 с. Деп. в ВИНИТИ, № 4333-83.
- Гроф С. Космическая игра / пер. с англ. О. Цветковой. М., 2001. 249 с.
- Упанишады / пер. с санскрита, предисл. и коммент. А.Я. Сыркина. М., 1967. 336 с.
- Шимельфениг О.В. Живая Вселенная. Сюжетно-игровая картина мира. ХХI век: "Самозавет" или "Самоапокалипсис". Саратов, 2005. 688 с.
- Шимельфениг О.В. Живая Вселенная. Сюжетно-игровая картина мира. ХХI век: "Самозавет" или "Самоапокалипсис". Саратов, 2005. С. 106.