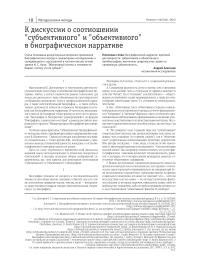К дискуссии о соотношении "субъективного" и "объективного" в биографическом нарративе
Автор: Алексеев Андрей Николаевич
Журнал: Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований @teleskop
Рубрика: Методология и методы
Статья в выпуске: 3, 2012 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена дискуссионным вопросам применения биографического метода в гуманитарных исследованиях и солидаризуется с высказанной в частном письме точкой зрения И. С. Кона: "Объективной истины о человеке не бывает, потому что он субъект".
Биографический нарратив, критерии достоверности, субъективное и объективное в автобиографии, жизненное свидетельство, право на намеренную субъективность
Короткий адрес: https://sciup.org/142181969
IDR: 142181969
Текст научной статьи К дискуссии о соотношении "субъективного" и "объективного" в биографическом нарративе
бывает, потому что он субъект". Андрей Алексеев независимый исследователь
Накопленный Б. Докторовым1 и некоторыми другими исследователями опыт сбора и обобщения биографических интервью, взятых у коллег-социологов разных поколений, дал повод для дискуссии о мере объективности (достоверности) отображения жизненного пути и профессиональной карьеры, а также интеллектуальной биографии — в таких субъективных документах личности и времени, биографии и истории, как биографические нарративы. В частности, высказывались едва ли не полярные точки зрения на этот счет в дискуссии "Биография и биокритика" развернувшейся на форуме "Биографика, социология и история", в рамках российско-американского проекта "Международная биографическая иници-атива"2.
Особенно ярым критиком "субъективизма" биографического метода выступил старейший российско-американский социолог В. Шляпентох3. Одним из поводов для критики послужило сомнительное, с точки зрения В.Ш., воспоминание о жизненном эпизоде полувековой давности, вошедшее в состав биографического интервью одного из коллег.
Здесь не стану углубляться в перипетии этой дискуссии, имевшей много методологических и этических поворотов и ответвлений4. А выскажу несколько общих соображений, существенных, как мне кажется, для понимания соотношения "субъективного" и "объективного" в биографике.
Биография человека не сводится к последовательности личных и/или общественно значимых событий, она есть также многолетнее движение мысли, чувства, воли — внутреннего мира человека (недаром говорят: интеллектуальная, творческая и т.д. биография).
Расширим этот взгляд, отнеся его к социальной реальности в целом.
А. Социальная реальность (хоть в статике, хоть в динамике взятая, хоть вообще, хоть в отдельных ее сферах) включает в себя как "бытие", так и "сознание" (соответственно — общественное, коллективное и даже индивидуальное), а также все многообразие связей между ними. Т. е. сознание не менее реально, чем бытие.
Б. Как объективная, так и субъективная стороны социальной реальности (исторического процесса) могут фиксироваться и "твердыми", и "мягкими" фактами, строго и нестрого организованными наблюдениями, официальными и личными документами, качественными и количественными методами. Не существует предпочтительных способов узнать, как все было "на самом деле".
В. "Не доверять" надо в равной мере как "субъективным" свидетельствам частных лиц (ретроспективные еще менее надежны, чем созданные "по горячим следам"), так и "объективным" (скрепленным всевозможными печатями) документам. Ибо авторы последних — тоже люди, к тому же особо зависимые от институциональных установлений и "господствующих мыслей эпохи". Так, например, наивно полагать, что сухое фактографическое описание исключает тенденциозность, равно как и неправда, что в экспрессивных мемуарных заметках отсутствует объективное содержание.
Г. Всякое исследование социальной реальности, каким бы арсеналом методов оно ни пользовалось, есть процесс относительно односторонний и принципиально не завершенный. Если исследователь сосредоточен преимущественно на фактах социального поведения, это вовсе не означает, что — хотя бы впоследствии и не им самим — это не будет дополнено фактами сознания (о которых, впрочем, приходится судить либо по вербальному поведению, либо по реконструкциям мотивов и т. п. из установленных "объективных" фактов). И наоборот.
Д. "Истинная" история (хоть общества, хоть индивида) неизбежно есть продукт множества последующих интерпретаций, о качестве которых мы судим по мощности информационной базы, соблюдению профессиональных норм, логичности и внутренней непротиворечивости рассуждений. Что касается истории личности, т. е. биографии, то, как тонко заметил (в частном письме) И. С. Кон: "Объективной истины о человеке не бывает, потому что он субъект"5.
-
Е. Спор на тему: среда определяет сознание или сознание творит мир (вариация основного вопроса философии), — мало перспективен, именно как спор, но не как диалог, предполагающий взаимообогащение его участников новыми знаниями и аргументами. Не ИЛИ, а И (то и другое…) приближает к пониманию реального устройства, в частности, "социальной вселенной".
Ж. Что касается биографических исследований, то двумя ключевыми и равноправными вопросами здесь, на наш взгляд, оказываются: "что обстоятельства делают (могут сделать) с человеком" и "что человек делает (может сделать) с обстоятельствами". Это есть некий двуединый процесс, который может исследоваться комплексно, а может — и по частям, в перспективе позднейшего синтеза.
Теоретико-методологические тексты Б. Докторова, Д. Ша-лина, В. Шляпентоха, О. Маховской, Э. Беляева, Б. Фирсова, А. Готлиб и др. членов "незримого колледжа" имеют отношение вовсе не только к истории российской социологии, будь то с "человеческим" или "нечеловеческим" лицом, или к биографическому методу, в любых его формах. Это мое первое утверждение.
И второе: особенно последняя полемика Анны Готлиб и Владимира Шляпентоха6 демонстрирует, на мой взгляд, наше разнообразие в единстве и единство в разнообразии. Хочется оппортунистически согласиться с обоими полемистами, поскольку у каждого — свое "рациональное зерно".
С точки зрения сказанного, я удерживаюсь от того, чтобы солидаризоваться с В. Шляпентохом или А. Готлиб, полагая обоих если не правыми, то ВПРАВЕ акцентировать либо "объективную", либо "субъективную" сторону социальной реальности и, соответственно, социального знания (в том числе, в сфере биографики и истории науки). И оба делают это весьма убедительно. Возражать стоило бы только против абсолютизации той или иной точки зрения. Однако поводов для такого упрека эти авторы в указанных двух текстах вроде не дают.
Замечу еще, что В. Шляпентох, на мой взгляд, напрасно отдает марксизму монополию на тезис о зависимости сознания от среды, приписывая феноменологии и / или постмодернизму исключительно противоположные взгляды. И марксизм вовсе не так уж материалистичен и детерминистичен, и постмодернизм не так уж субъективен и идеалистичен.
Влияние внешних и внутренних обстоятельств, культурного, идеологического, а иногда и просто личностного контекста на создание всякого данного биографического текста (дискурса) обычно очень велико.
Отсюда возникает сомнение в достоверности всякой биографии, особенно если основным ее источником оказывается собственный рассказ биографанта — биографический нарратив. У критиков биографического метода складывается убеждение, что автобиографическое повествование "насквозь субъективно". При этом предполагается, что только безусловно установленные и многосторонне подтвержденные факты должны составлять корпус биографии.
Разумеется, автор настоящего доклада вовсе не против поиска объективной истины и / или адекватной исторической реконструкции. Однако это дело профессионального исследователя, использующего ради этого и не только биографический метод (в частности, в социологии прижился термин "методологическая триангуляция").
Что касается средств контроля "на истинность" отдельно взятого биографического текста, то существенным здесь могут оказаться стилевые характеристики и внутренняя непротиворечивость самоописания и ауторефлексии рассказчика.
Заметим, что при всей субъективности таких автобиографических произведений, как "Жизнь — сапожок непарный" (Тамара Петкевич), "Подстрочник" (Лилианна Лунгина), "Корни и сучья" (Анатолий Солипатров), "Диск" (Анри Кетегат), "Дальний архив" (Эрлена Лурье) вряд ли даже самому придирчивому читателю придет в голову усомниться в их биографической и исторической достоверности.
И последнее замечание. Создатель биографического нарратива есть главное действующее лицо и — пока здравствует — "хозяин" собственной биографии (имея в виду именно реконструкцию своего жизненного пути, а не сам жизненный путь, что есть отдельная тема).
Автор настоящего доклада отстаивает ту точку зрения, что всякое автобиографическое повествование имеет право на намеренную субъективность (не говоря уж о субъективности ненамеренной), на предъявление человеком событий собственной жизни, а также их освещение и истолкование такими, какими он их видит и / или хотел бы видеть и трактовать. Биогра-фант имеет право на умолчание и даже на искажение действительных событий, если это не затрагивает чести и достоинства других людей. Всякий "рассказ о жизни" есть автопортрет героя (он же — рассказчик), каким он был и, вместе с тем, каким является ныне, есть взгляд в прошлое "из сегодня", сквозь призму всего жизненного и исторического опыта субъекта. Любая информация в биографическом нарративе есть жизненное свидетельство, а не свидетельское показание.
***
Подводя итог, постулируем следующие положения применительно к биографическим исследованиям:
-
а) субъективность есть имманентное свойство личности;
-
б) субъективность не есть альтернатива достоверности автобиографического повествования;
-
в) автор биографического нарратива имеет право на намеренную субъективность.
Апрель 2012