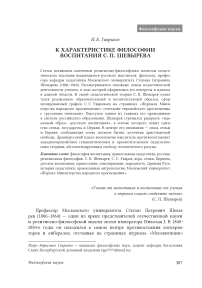К характеристике философии воспитания С. П. Шевырева
Автор: Гаврилов Игорь Борисович
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Философские науки
Статья в выпуске: 4 (75), 2017 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена ключевым религиозно-философским аспектам педагогического наследия выдающегося русского мыслителя, филолога, профессора кафедры педагогики Московского университета Степана Петровича Шевырева (1806-1864). Рассматриваются основные этапы педагогической деятельности ученого, в ходе которой оформились его интересы и идеалы в данной области. В своей педагогической теории С. П. Шевырев попытался реализовать образовательный и воспитательный образец, сформулированный графом С. С. Уваровым на страницах «Журнала Министерства народного просвещения»: сочетание европейского просвещения с «русскими началами». Выступая одним из главных его проводников в системе российского образования, Шевырев стремился раскрыть «идеальный образ» «русского воспитания», в основе которого лежит единство семьи, государства и Церкви. В центре его внимания - связь семьи и Церкви, сообщающая семье цельное бытие, источник христианской свободы. Древнерусский идеал воспитания мыслитель противопоставляет западноевропейским гуманистическим и просветительским педагогическим теориям, абсолютизирующим свободу человеческого разума.
Философия воспитания, православная педагогика, русская религиозная философия, с. п. шевырев, с. с. уваров, вера, семья, церковь, русское воспитание, православие, самодержавие, народность, древняя русь, история педагогики, православная антропология, московский университет, "журнал министерства народного просвещения"
Короткий адрес: https://sciup.org/140223439
IDR: 140223439
Текст научной статьи К характеристике философии воспитания С. П. Шевырева
«православно-русское направление» и подвергаясь постоянным нападкам со стороны западнического лагеря. Сформированный его недоброжелателями карикатурный образ «Швырки» — реакционера, чинопо-клонника и «педанта» — почти на полтора столетия заслонил другой образ — «великого трудолюбца», «ревнителя просвещения»1, оригинального поэта, самобытного мыслителя и ученого-новатора, «строго-православного и многостороннейше образованного»2.
Поэтическое, литературно-критическое, философское, публицистическое наследие Степана Петровича оказалось рассеянным по различным дореволюционным изданиям и не получило достаточного освещения в исследовательской литературе. После 1917 года имя выдающегося мыслителя как представителя «николаевской реакции» и «официальной народности» было выброшено из русской культуры, и лишь в последнее десятилетие его труды стали возвращаться к читателям. В сегодняшнем, во многом лишенном твердых нравственных ориентиров социуме они представляют живой интерес. Особое место в этом богатейшем наследии занимают сочинения, затрагивающие проблемы педагогики3.
Вопросы воспитания волновали С. П. Шевырева на протяжении всей его жизни. Первый педагогический опыт он приобрел еще в 1828–1832-м годах, когда служил домашним учителем семнадцатилетнего князя А. Н. Волконского, сына поэтессы и хозяйки знаменитого литературного салона княгини З. А. Волконской. В течение трех лет вместе с семейством Волконских молодой наставник и начинающий ученый находился в Италии, где серьезно изучал древние и новые языки, европейскую культуру и образованность.
Занимаясь со своим воспитанником русской историей, в частности историей Петра I, Шевырев приходит к убеждению, что главным воспитателем и просветителем в России является монарх: «У нас свет от трона. У нас Царь предлагает вопрос просвещения и отвечает на оный»4. В это время он пишет своему другу, историку М. П. Погодину из Рима: «Мне часто приходит мысль: всякому из нас по частям должно продолжать дело Петра и потом еще приготовлять Россию и к обратному плану, т. е. возвращать Русских к Русскому»5. Эта сформулированная в самом начале педагогической работы, при ежедневном общении с молодыми посетителями римского аристократического салона княгини Волконской, задача — «возвращать Русских к Русскому» — впоследствии станет главной в жизни и литературной и педагогической деятельности ученого.
Незадолго до окончания итальянского путешествия Степан Петрович с удовлетворением отмечал в письме к А. В. Веневитинову, что выполнил поставленную цель — смог обратить своего первого воспитанника, юного князя Александра, от иностранного воззрения к русским началам: «Как же несносны офранцуженные Русские. Эти существа сами же себя уничтожают. Мой князь спасен от этой порчи, к сожалению, заражающей все сословие, к коему принадлежит он»6.
Накануне отъезда в Россию Шевырев писал Погодину: «Возвращаюсь более Русским, нежели чем поехал. Нам предлежит создать новое поколение чисто-Русских. До сих пор в нас было излишнее влияние Запада. <…> Авось мы разгадаем — как быть Р усск им и что такое Р усск ий» 7 . Все последующие педагогические труды мыслителя одушевлены мечтой воспитать новое поколение студенчества в национальном духе, привить ученикам любовь к Русской Православной Церкви и отечественной культуре во всем ее богатстве: святоотеческое предание, древнерусская словесность и русская классическая литература XIX века, поэзия, народная песня и проч. Они представляются попыткой ответить на поставленный вопрос.
* * *
В 1830–1840-е годы главным покровителем Шевырева становится министр народного просвещения граф Сергей Семенович Уваров. Один из самых образованных людей своего времени, еще в 1818 году возглавивший Петербургскую академию наук, Уваров хорошо понимал опасность «отвлеченных теорий», творцы которых планировали «сделать Россию английскую, Россию французскую, Россию немецкую»8. Но эти деятели не осознавали, что «в тот момент, когда Россия перестанет быть Русской, она перестанет существовать вообще»9. «Если мне удастся отодвинуть Россию на пятьдесят лет от того, что готовят ей теории, то я исполню мой долг и умру спокойно», — говорил граф10.
Конечную цель системы образования Уваров видел «в восстановлении в нас Святой Руси, но уже не в прежнем ограниченном виде, а в нынешнем, достойном великой Монархии и всеобщих успехов обра-зованности»11. Уваровский воспитательный идеал заключался в сочетании европейского просвещения с «русскими началами», — в том, чтобы юношество «лучше знало Русское и по-Русски»12. Для этого необходимо было утвердить в системе российского просвещения «русские начала». Министр размышлял: «Успеем ли мы включить их в систему общего образования, которая соединила бы выгоды нашего времени с преданиями прошедшего и надеждами будущего? Как учредить у нас народное воспитание, соответствующее нашему порядку вещей и не чуждое Европейского духа? По какому правилу следует действовать в отношении к Европейскому просвещению, к Европейским идеям, без коих мы не можем уже обойтись, но которые без искусного обуздания их грозят нам неминуемой гибелью?»13
Реализуя свою цель, Уваров замыслил и осуществил самую грандиозную реформу в истории отечественных университетов, началом которой стало утверждение императором Николаем I «Общего устава Императорских российских университетов». По словам Уварова, реформа должна была «положить конец превратному домашнему воспитанию их (детей высшего класса, — И. Г. ) иностранцами; уменьшить господство страсти к иноземному образованию, блестящему по наружности, но чуждому основательности и истинной учености, и, наконец, водворить как между молодыми людьми высших сословий, так и вообще в университетском юношестве стремление к образованию народному, самостоятельному»14.
Главным рупором идей графа становится созданный им в январе 1834 года «Журнал Министерства народного просвещения» (ЖМНП). На его страницах он предлагал «изгладить противоборство так называемого европейского образования с потребностями нашими: исцелить новейшее поколение от слепого, необдуманного пристрастия к поверхностному и иноземному, распространяя в юных умах радушное уважение к отечественному и полное убеждение, что только приноровление общего, всемирного просвещения к нашему народному быту, к нашему народному духу может принести истинные плоды всем и каждому»15.
Уваров лично подобрал сильный редакционный состав журнала, в котором выделялись: П. А. Плетнев — профессор русской словесности Санкт-Петербургского университета (с 1832-го по 1849-й годы; с 1840-го по 1861-й годы — ректор; с 1828 года, по рекомендации В. А. Жуковского, преподавал литературу наследнику престола великому князю Александру Николаевичу и великим княжнам; ему А. С. Пушкин посвятил роман «Евгений Онегин»), Ю. А. Штекгардт — профессор права Императорского училища правоведения, А. А. Фишер — профессор философии и педагогики в Главном педагогическом институте, а впоследствии в Санкт-Петербургском университете и Санкт-Петербургской духовной академии, а также Я. М. Неверов, выпускник Московского университета, молодой критик и педагог, близкий кругу Т. Грановского.
Первый номер нового издания открывался программной статьей министра, в которой Россия была определена как держава, стоящая «на высокой чреде славы и величия», имеющая «внутреннее сознание своего достоинства» и на троне — «Провидением ниспосланного Царя — хранителя Веры и ее народности». Страна представляется вышедшей из периода безусловного подражания, способной ясно отличать в Европе добро от зла, т. к. она носит в сердце своем три залога — «Веру, народность и Самодержавие»: «Здесь Царь любит Отечество в лице народа и правит им, как отец, руководствуясь Законом; и народ не умеет отделять Отечество от Царя и видит в нем свое счастье, силу и славу»16.
Также в первом номере было опубликовано циркулярное предложение Уварова от 21 марта 1834 года «начальствам Учебных Округов о вступлении в управление Министерством», в котором излагалась концепция русской триады: «Общая наша обязанность состоит в том, чтобы народное образование <…> совершалось в соединенном духе Православия, Самодержавия и народности»17.
На первом месте уваровской триады неслучайно стояло православие — основа народного воспитания и образования: «Искренне и глубоко привязанный к Церкви отцов своих, Русский искони взирал на нее как на залог счастья общественного и семейного. Без любви к Вере предков народ, как и частный человек, должен погибнуть; ослабить в них Веру, то же самое, что лишить их крови и вырвать сердце».
Самодержавие же, писал граф, «представляет главное условие политического существования России. Русский колосс упирается на нем как на краеугольном камне своего величия. Эту истину чувствует неисчислимое большинство подданных Вашего Величества. <...> Спасительное убеждение, что Россия живет и охраняется духом Самодержавия сильного, человеколюбивого, просвещенного, должно проникать народное воспитание и с ним развиваться».
Что касается последней составляющей, то «наряду с этими двумя национальными началами находится и третье, не менее важное, не менее сильное: народность. <…> Относительно к народности все затруднение заключалось в соглашении древних и новых понятий. Государственный состав, подобно человеческому телу, переменяет наружный вид свой по мере возраста; черты изменяются с летами, но физиономия изменяться не должна. Неуместно было бы противиться этому периодическому ходу вещей; довольно, если мы сохраним неприкосновенным святилище наших народных понятий; если примем их за основную мысль правительства, особенно в отношении к отечественному воспитанию»18.
Стараниями либерального историка А. Н. Пыпина уваровская триада в массовом интеллигентском сознании превратилась в одиозную теорию «официальной народности», основанную якобы на апологии крепостничества, обскурантизма и бюрократии19. Поэтому имеет смысл сказать о ее современном научном понимании.
Идеологическая тенденциозность теории «официальной народности», сконструированной А. Н. Пыпиным, сегодня уже очевидна. Так, Н. И. Казаков убедительно раскрывает несостоятельность определения Пыпина. По заключению исследователя, понятие «народности» было выдвинуто графом С. С. Уваровым и воспринято большинством его современников как «призыв к развитию и утверждению самобытно-русской национальной культуры»20.
В своей деятельности министр-реформатор нуждался не просто в исполнителях, но прежде всего в единомышленниках — преподавателях, администраторах, чиновниках, журналистах, разделявших его патриотическую позицию. В лице С. П. Шевырева он нашел именно такого убежденного и преданного России и идеям русского воспитания и образования человека. Сформулированная Уваровым триада «Православие. Самодержавие. Народность» оказала на мировоззрение Шевырева значительное влияние. На протяжении всего периода своего университетского служения он оставался одним из главных ее проводников в отечественной системе образования. Однако было бы неверным рассматривать ученого лишь как адепта и ретранслятора уваровской триады. Он, безусловно, являлся самостоятельным мыслителем, выразителем православного мировоззрения, отражавшего многогранность его личности и всю совокупность интеллектуального и духовного опыта его жизни и деятельности.
* * *
По возвращении в Россию при содействии С. С. Уварова21 Шевырев получил место адъюнкта, а позднее профессора в Московском университете, с которым неразрывно связал свою судьбу. За годы преподавания в университете, читая курсы по истории западноевропейской и русской словесности, истории русского стиха и слога (не сохранились), теории поэзии, общей риторики и др., он приобретает громадный педагогический опыт. С самого начала преподавательской деятельности Шевырев обязал студентов конспектировать свои лекции, причем, как свидетельствуют ученики, лично проверял их конспекты и исправлял ошибки. В 1837 году за сочинение «Теория поэзии в историческом ее развитии у древних и новых народов» Степан Петрович удостаивается высокой ученой степени доктора философии.
В 1838–1839-м годах Шевырев совершает второе путешествие в Европу (на этот раз поездка была оформлена как оплачиваемая научная стажировка). Он посетил множество высших и средних учебных заведений Франции, Англии, Германии и Италии и регулярно публиковал об этом отчеты в ЖМНП, описывая открытую и изученную им за границей методику преподавания и проч.
Вернувшись в 1840 году в Москву, С. П. Шевырев был утвержден ординарным профессором, а в феврале 1841 года получил чин коллежского советника. Последующее десятилетие он усиленно занимается научной и преподавательской деятельностью. В 1852 году Санкт-Петербургская Императорская академия наук утверждает его ординарным академиком по отделению русского языка и словесности. Получил профессор и международное научное признание как доктор философии Императорского Королевского пражского университета, действительный член Королевского афинского общества изящных искусств и Королевского датского общества северных антиквариев и др.22 В 1846–1847-м учебном году Шевырев был утвержден деканом первого отделения философского факультета.
Формирование педагогической науки в России пришлось на начало 1850-х годов. Эта эпоха (1848–1855-й годы), последовавшая за европейскими революциями 1848 года, получила в либеральной историографии наименование «мрачного семилетия». Однако происходившие в то время в университетской жизни процессы с трудом поддаются однозначной характеристике. Уже при новом министре князе П. А. Ширин-ском-Шихматове выходит циркуляр Министерства народного просвещения от 5 ноября 1850 года, согласно которому в российских университетах были образованы кафедры педагогики. Основной их задачей стала подготовка русских домашних наставников, способных заменить в дворянских семьях гувернеров-иностранцев (практика приглашения последних была широко распространена в России уже более полувека, со времен Французской революции 1789 года). Хотя импульсом к этим нововведениям послужило некоторое ограничение контактов русских людей с революционной Европой, такой шаг, безусловно, назревал давно23.
В Московском университете кафедра педагогики появилась в конце 1850 года. А уже 10 января 1851 года С. П. Шевырев был утвержден исполняющим обязанности профессора новообразованной кафедры. В представлении ректора отмечалось, что ученый «имеет многолетний опыт практических занятий со студентами», а также опыт по изучению известных школ в Веймаре, Голландии, Швейцарии, Баварии и Франции». Еще в 1842 году он выступил с публичной лекцией «Об отношении семейного воспитания к государственному», в которой был представлен «основательный взгляд на необходимость сообразовать отечественное воспитание с местными потребностями и таким образом основать у нас педагогику Русскую»24.
Названная лекция действительно стала важной вехой становления Шевырева как мыслителя и педагога, своеобразной программной формулировкой его педагогического опыта. Поэтому о ней стоит сказать особо.
13 июля 1842 года в торжественном собрании Университета Степан Петрович произнес речь «Об отношении семейного вопроса к государственному», в которой определил собственную концепцию «единого, живого, народного, соответственного нашей почве» воспитания. Характерно его обращение к сравнительному анализу западных и отечественных воспитательных традиций. Методы европейских гуманистов и католических иезуитов ему видятся выражением двух пагубных крайностей в рассматриваемом процессе: первые абсолютизировали свободу разума, а вторые подчинили образование «слепому послушанию». После обзора систем воспитания древних евреев, индийцев, персов, греков и римлян Шевырев наиболее подробно останавливается на христианской модели, представляющейся ему идеалом семейного воспитания.
В центре внимания педагога — «таинственная духовная связь между Церковью и семьею», сопровождающая все развитие человека: «Церковь рядом таинств сообщает благодать семье»25, дает ей «бытие цельное и свободное», в котором заключен корень истинной христианской свободы. В поисках идеала христианского воспитания Шевырев обращается к Древней Руси, где семейная жизнь «велась давним коренным обычаем и находилась <…> более под ведением Церкви, нежели законов»26.
Уже в этой работе ученый стремится представить «идеальный образ Русского воспитания». По его мнению, воспитание каждого народа должно созидаться на коренных основах его бытия. Важнейшим корнем бытия русского, «древней семейной святыни», для Шевырева, как и для его единомышленников, авторов журнала «Москвитянин» славянофилов К. С. Аксакова, А. С. Хомякова, М. П. Погодина, была первопрестольная православная Москва, сохранявшая свой заветный обычай семейной жизни, живую связь с семейным бытом допетровской Руси27.
Как подчеркивает Шевырев, «все предания исторические свидетельствуют нам о добром семейном начале, граждански развитом, которое легло в основу нашей древней Руси». Идеальный образ русского воспитания философ представляет в форме единства семьи, государства и Церкви. Особенно интересны его рассуждения об органической иерархии трех слоев в формировании русской семьи. Первый слой, «самый глубокий, основной» — христианский, в котором должен «зачинаться корень духовного бытия каждого Русского человека, как зачался и освятился корень жизни всей России». Второй слой — народный, а третий — наружный слой — «избранного Европейского образования, вмещающего в себя все то, что доброго завещал Запад для усвоения всем векам и народам».
В первом, самом высшем слое «зачнется человек вообще или Христианин», во втором по иерархии — русский, в третьем — образованный европеец, подготовленный для общественной жизни28.
Обозначенная иерархия — христианин, русский, образованный европеец — по мнению Степана Петровича в русских семействах высших сословий искажается и извращается: «Блеск наружного Европейского просвещения ложится в глубину, в основу, но не может дать ее; Христианство ограничивается одними наружными обрядами; стихия народная — обиходным языком по необходимости, и внутреннее существо Русского человека обращается в одну поверхностную внешность»29.
Для утверждения православия в семье Шевырев рекомендует «непрерывные домашние богослужения»: «Чем чаще семья освящается молитвами, осеняется крестом и благословениями священнослужителей, тем более святыня Религии проникает внешними чувствами в душу детей. <…> О, сколько таких прекрасных, святых обычаев лежит в нашей древней жизни! Ими стал бы гордиться иной народ, а мы от них удаляемся, ослепленные чужим бытом наружного просвещения»30.
В дальнейшем свое понимание предмета педагогики мыслитель изложил в двух программных лекциях — «Вступление в педагогию» и «О цели воспитания», опубликованных в ЖМНП и ставших, по мнению современников, апофеозом русскости. В первом сочинении педагогия рассматривается как «часть Науки самопознания человеческого». В словах ученого ощущается искренняя боль за современное состояние отечественной интеллигенции: «Сколько Русских людей, праздно живущих <…>, лишь потому, что воспитание не только не связало их, но разорвало их связь с Отечеством»31; «Создание Русских воспитателей: вот настоящая потребность нашего Отечества!» Главная же задача «Русского воспитания» — «выработать Русский образ мыслей», исходящий из «сознания Русской жизни»32.
В своих лекциях по педагогике Шевырев неизменно говорит о вере и Церкви. Так, он определяет цель воспитания в терминах православной сотериологии — как «искупление и спасение падшего человека». «Самый первый вопрос в педагогии» — о назначении человека — по его убеждению «связывает Науку с Христианским Вероучением». Важнейшая роль в деле воспитания принадлежит православному богослужению, которое призвано благотворно воздействовать на детские души: «Все первоначальное религиозное воспитание у нас совершается в самом храме Богослужением, под руководством матери-Церкви. Как же нам последовать совету Протестантской Педагогии, которая так ограничивает для детей посещение храмов?»33
В работе под названием «О цели воспитания» философ формулирует четыре положения педагогики, «извлеченные из опыта». В первом он определяет человека как «существо, назначенное к воспитанию»: «Из всех созданий Божиих человеку только принадлежит воспитание, человек только должен быть воспитан». Второй тезис Шевы-рев выводит из самого общественного положения человека, который с рождения окружен семьей, народом, государством: «Если человек только через воспитание может сделаться человеком, то Русской только через Русское воспитание может быть Русским человеком. <…> Русский воспитатель должен помнить, что Русского человека воспитывает вся Россия. И в этом воспитании соединенно участвуют: Православная Церковь, Государь, семья, общество, государство, Русский народ, история Русская, отечественный язык и те государства, которые связаны с нами единством Европейских обычаев или человеческого образования. Избави Боже воспитателя, если он подумает взять на одного себя то, что совершается в воспитании Русского человека всеми этими силами. Его задача уметь быть благоразумным посредником всех этих живых сил <…> и свою одинокую силу умножить в тысячу крат этими великими силами своего Отечества»34. Согласно третьему положению, «воспитание состоит не в сообщении новых способностей, но только в возбуждении и руководствовании данными». И, наконец, в соответствии с четвертым, — «человек должен быть воспитан весь».
Таким образом, воспитание должно обнимать человека всецело: тело, душу и дух. И чисто телесное, и чисто душевное воспитание может быть односторонним. Но более всего опасно одностороннее духовное воспитание, когда дух понят ложно «ибо духовным воспитанием венчается и усовершается весь человек». Под духовным воспитанием Шевырев понимает воспитание в высшем значении, «когда сам Дух Божественный воспитывает человека». Его образцами он называет святых, приводя примеры преподобных Кирилла Белозерского, Сергия Радонежского, Корнилия Комельского и др.35.
Большой научный интерес представляют неизданные планы, черновики и конспекты лекций Степана Петровича по педагогике. Помимо глубокого знания ее современных западных систем, прежде всего немецкой, обращает внимание твердая опора мыслителя на святоотеческое наследие36. Так, в кратком конспекте лекции, посвященной вопросам антропологии, он отмечает:
«Пороки по составу тела человеческого, начиная с ног до головы.
Ноги — лень (мать пороков — праздность).
Детородные части — похоть. Соблюдение невинности и целомудрия в человеке.
Чрево — объедение и пьянство.
Сердце — зависть, гнев, месть, злоба, ненависть (себялюбие), уныние.
<…>
Руки — корыстолюбие (любостяжание, лихоимство, воровство, грабительство).
Лицо — лицемерие, лесть, подлость (перед людьми).
Слово — злословие, болтовство (празднословие). Клевета. Ложь.
Осуждение — тщеславие.
Уши — легковерие.
Глаза — соблазн.
Голова — гордость — самомнение — порок дьявольский, мешающий видеть свои недостатки и исправлением их следовать по пути совершенствования.
Гордость перед людьми — высокомерие.
Гордость перед Богом — безбожие.
Добродетели, противоположные порокам.
Трудолюбие.
Целомудрие.
Воздержание.
Любовь.
(Радость сердца). Чистота сердца.
Бескорыстие и милосердие.
Искренность. Благородство. <…>
Смирение — Вера»37.
Показательны взгляды ученого на духовность. В разделе «Воспитание духовности» также неизданного конспекта лекций он пишет:
«Дух выше души, духовное выше душевного. Учение Веры о Духе.
Связь души через дух с миром духовным, с миром Божиим. Бог есть Дух.
Мир духовный доступен нам через Веру. Воспитание духовное есть воспитание в Духе Веры. <…>
Учительница Веры Церковь.
Учение Веры относительно мира духовного: искушать духи — Дух Божий и дух дьявольский (дух мира).
Воспитание действием благодати Духа Божия — воспитание мужей святых.
Сила духов враждебных.
Опасное действие этой силы при <неразб.> современной, что дьявола нет»38.
В лекции под названием «Воспитание нравственности» интересны рассуждения философа о чувстве чести: «Чувство чести — как основа нравственному воспитанию. Чувство чести как сознание своего нравственного достоинства, побуждает нас убояться тех поступков, в которых это чувство нарушается. <…> Настоящее понимание этого чувства: да будет стыдно перед добрыми людьми…»39
Стоит также отметить, что критика Шевыревым новейших западных концепций воспитания не носит огульно отрицающего или разоблачительного характера — он указывает на необходимость всестороннего изучения европейского педагогического наследия. В то же время педагог предостерегает своих современников от бездумного и безоглядного принятия популярных иностранных теорий. Так, по определению Степана Петровича, концепция воспитания Ж.-Ж. Руссо, изложенная в его дидактическом романе «Эмиль, или О воспитании», послужила идейной основой кровавых событий Французской революции. Сам Руссо характеризуется Шевыревым как «поклонник страстей человеческих», а герой его романа — Эмиль — назван «безродным космополитом», «воспитанным на мечтах о безграничной свободе»40. «Руссо задал себе задачу: следовать природе, воспитывать человека по естественным побуждениям, а для этого удалил человека от семьи, общества, государства, народа, — и вот это воспитание, которое могло привести западного человека только к космополитизму»41, — заключает мыслитель.
Заслуживает внимания и его развернутая научная классификация педагогики как научной дисциплины. Степан Петрович делит ее на три составные части: «1) антропологическую42, или учение о цели и данных для воспитания; 2) историческую, или учение о путях и способах воспитания; 3) собственно педагогическую, или начертание плана воспитания, но не отвлеченного, а возможного в действительности»43. Остановимся на второй, исторической части. Кроме экскурса в историю древнего, в частности античного, воспитания44, важное место в ней занимает история отечественной педагогики. Как на источники педагогической науки в Древней Руси Шевырев указывает на «Поучение Владимира Мономаха» — «образец самого древнего христианского Русского воспитания», «Домострой» иерея Сильвестра и жития русских святых. Ученый подчеркивает, что «все опыты минувшего, завет наших праотцев должны быть теперь сбережены, как сокровище, Наукою воспитания»45.
Духовный наследник Н. М. Карамзина, соратник С. С. Уварова и М. П. Погодина, «строго православный и многосторонне образованный» (по выражению историка П. И. Бертенева), С. П. Шевырев видит важную задачу отечественного образования в выражении христианской мысли в русском слове: «Язык есть невидимый образ всего Русского человека»46. Педагог защищает в особенности церковнославянский язык как основу храмового и домашнего богослужения, сопровождающего в России жизнь каждого христианского младенца. Своего рода наказом родителям-современникам звучат его слова: «Окружайте колыбель его сладкозвучными песнями и преданиями Родины, да вырастает ваше дитя на этих звуках и чувствах, как вырастала на них богатырская Россия! Да не прикоснется к устам и языку его ни один чуждый звук до тех пор, пока разовьется в нем свободно дар человеческого слова в звуках, ему родных, — там пускай приходят по очереди и образованные языки иных народов, но пусть приходят в семью нашу как приглашенные гости, а не как властелины, порабощающие ваш ум и народное слово!»47
По мнению современного исследователя48, в 1850-е годы Шевырев приходит к осознанию ограниченности круга «общественного действия», который сводится к «порецким беседам»49. В ситуации общественной невостребованности и даже некоторой изолированности ему остается «идти своим путем и делать дело — вот то, в чем моя уверенность, мое спокойствие и моя готовность на всякую пользу. Моя удача в том, что влагаю душу [в] каждое дело и без молитвы ничего не делаю: сил своих не щажу» (1851 год)50.
Подводя итоги, отметим, что С. П. Шевырев внес значительный вклад в развитие отечественной педагогики как науки. Дело такой науки в его понимании — «определить Русским великую задачу Русского воспитания <…>, выработать Русский образ мыслей о воспитании, который приходился бы к нашей почве, истекал бы из сознания Русской жизни»51. Этот духовный завет выдающегося мыслителя и педагога актуален и в наше время.
* * *
Своеобразная философия воспитания Степана Петровича Шевы-рева выходит далеко за рамки его университетских лекций по педагогике и очевидного влияния на него уваровской триады. Она неразрывно связана со всем богатейшим опытом его общественной, литературной, журнальной и научной работы, с особенностями его душевно-духовного склада, отмечаемой современниками склонностью к полемике52, идейной и жизненной приверженностью Русской Православной Церкви, спецификой идеологической борьбы эпохи императора Николая I и многими другими аспектами. Для понимания взглядов Шевырева на образование и воспитание совершенно необходим анализ всего этого насыщенного философского, культурного и религиозного контекста деятельности. Настоящая статья является лишь одним из начальных шагов на пути исследования и осмысления огромного наследия выдающегося ученого, мыслителя и педагога и, в частности, его самобытной и малоизученной философии воспитания.
Список литературы К характеристике философии воспитания С. П. Шевырева
- Алексеева Е. Д. С. П. Шевырев в общественной жизни дореформенной России. Диссертация канд. исторических наук. М., 2006.
- Б. п. (без подписи)//ЖМНП. СПб., 1834. Ч. 1. № 1. С. 5-6.
- Барсуков Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина. Кн. 1-22. СПб., 1888-1910.
- Власов В. А. «Радетель российской самобытности» граф Сергей Семенович Уваров//Известия Пензенского государственного педагогического университета им. В. Г. Белинского. Пенза, 2008. № 13. С. 83-88.
- Гаврилов И. Б. «Философия воспитания» С. П. Шевырева//Педагогический дискурс в литературе. Выпуск 9. Материалы девятой всероссийской научно-методической конференции. СПб., 2015. С. 101-102.
- Гаврилов И. Б. Константин Аксаков о «русском воззрении» (1830-1840 гг.)//Христианское чтение. СПб., 2017. № 1. С. 238-262.
- Гаврилов И. Б. Степан Петрович Шевырев о «русском воззрении»//Христианское чтение. СПб., 2016. № 1. С. 229-289.
- Казаков Н. И. Об одной идеологической формуле николаевской эпохи//Контекст-1989. М., 1989. С. 5-41.
- Каширина В. В. Литературное наследие Оптиной Пустыни. М., 2006.
- Ковех А. В. О политике редакции «Журнала Министерства народного просвещения» в 1834-1836 гг.//Вестник Московского университета. Сер. 9: Филология. М., 2012. № 6. С. 114-126.
- Летопись скита во имя святого Иоанна Предтечи и Крестителя Господня,находящегося при Козельской Введенской Оптиной Пустыни: В 2-х т. М., 2008.
- Макарий Оптинский, преп. Собрание писем преподобного Макария Оптинского к мирским особам: В 3-х т. Петрозаводск, 2014.
- Мартынов В. А. У истоков «русской идеи». Жизнь и судьба С. П. Шевырева. М., 2013.
- Никитенко А. В. Записки и дневник: В 3-х т. Т. 1. М., 2005.
- Пыпин А. Н. Характеристики литературных мнений от двадцатых до пятидесятых годов. 4-е изд. СПб., 1909.
- Ратников К. В. Педагогические идеи Ж.-Ж. Руссо в критической оценке С. П. Шевырева//Альманах современной науки и образования. Тамбов, 2009.№ 4 (23).
- Ратников К. В. Холопы или собеседники? Профессорские вояжи в Поречье (Идеологическая стратегия графа С. С. Уварова и его единомышленников). Челябинск, 2006.
- РО ИРЛИ. Ф. 26. Ед. хр. 14. С. 151-152.
- Смельницкий И. С. П. Шевырев и его взгляды на задачи общественного воспитания//Шевырев С. П. Науки жрец и правды воин!/Сост., вступ. ст., путеводитель, коммент. Е. Ю. Филькиной. М., 2009. С. 341-349.
- Уваров С. С. Десятилетие Министерства народного просвещения.1833-1843//Уваров С. С. Избранные труды/Сост., автор коммент., переводов В. С. Парсамов; авторы вступ. ст. В. С. Парсамов, С. В. Удалов. М., 2010. С. 346-455.
- Уваров С. С. О некоторых общих началах, могущих служить руководством при управлении Министерством Народного Просвещения. 1833 г. // Сайт «Музей истории российских реформ имени П. А. Столыпина». URL: htp://музей-реформ. рф/node/13652 (дата обращения: 25.05.2017).
- Уваров С. С. Циркулярное предложение г. управляющего Министерством Народного Просвещения начальствам Учебных Округов о вступлении в управление Министерством//ЖМНП. СПб., 1834. Ч. 1. № 1. С. 49-50.
- Хотеенков В. Ф., Чернета В. Г. Министр-реформатор граф Сергей Семенович Уваров//Очерки истории российского образования: в 3-х т. Т. 1. М., 2002.
- Чумаков В. Т., Замостьянов А. А. Старейший журнал России//Народное образование. М., 2003. № 1. С. 64.
- Шевченко М. «Каждый Русский должен служить Престолу». С. С. Уваров. Ч. I // Сайт «Западная Русь». URL: htp://zapadrus.su/rusmir/istf/714-l-r-i.html (дата обращения: 25.05.2017).
- Шевырев С. П. Избранные труды. М., 2010.
- Шевырев С. П. Лекции по педагогике, читанные С. П. Шевыревым в Московском университете в 1851 году. Тексты и конспекты лекций и материалы к ним. Автографы и авториз. записи слушателей//ОР ГПБ. Ф. 850. Ед. хр. 38.Л. 27-28.
- Шевырев С. П. О цели воспитания. Лекция из педагогии, читанная профессором Шевыревым сентября 29, 1851 года в присутствии г. министра народного просвещения//ОР ГПБ. Ф. 850. Ед. хр. 38.
- Ширинянц А. А. Степан Петрович Шевырев//Шевырев С. П. Избранные труды. М., 2009. C. 5-67.