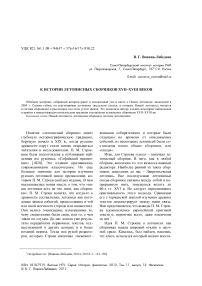К истории летописных сборников XVII–XVIII веков
Автор: Вовина-Лебедева Варвара Гелиевна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Древнерусский четий сборник:текст–контекст
Статья в выпуске: 12 т.11, 2012 года.
Бесплатный доступ
Обобщен материал, собранный автором ранее и изложенный уже в книге о Новом летописце, вышедшей в 2004 г. Однако сейчас он сгруппирован по-новому (выделены списки, в которых Новый летописец читается в составе сборников) и рассмотрен под этим углом зрения. Это позволило автору сделать некоторые наблюдения иприйти к новым выводам относительно традиции составления летописных сборников XVII–XVIII вв.
Новый летописец, летописные сборники, позднее летописание
Короткий адрес: https://sciup.org/14737700
IDR: 14737700 | УДК: 821.161.1.09
Текст научной статьи К истории летописных сборников XVII–XVIII веков
Понятие «летописный сборник» имеет глубокую историографическую традицию, берущую начало в XIX в., когда русские древности вдруг стали заново открываться читателям и исследователям. П. М. Строевым была подготовлена к публикации найденная им рукопись «Софийский временник» [1820]. Это издание признавалось современниками классическим. Но еще большее значение для истории изучения русских летописей имело предисловие, которым П. М. Строев снабдил издание. В нем высказывалась новая мысль о том, что «наши летописи есть не что иное, как сборники». П. М. Строев полагал, что когда-то в древности составлялись летописи как погодовые записи событий, происходящих в той или иной местности (городе или княжестве). Они велись очевидцами, излагавшими то, чему свидетелями были сами, или то, о чем знали по слухам. До нас дошли уже результаты переработки первичных текстов, осуществленной в других центрах и в более поздний период. Тогда под рукой редакторов, которых Строев именовал «невежест- венными собирателями» и которые были отдалены по времени от описываемых событий, из нескольких летописей были составлены некие общие сборники, или «своды».
Итак, для Строева «свод» – означало летописный сборник. В него, как в любой сборник, вносилось то, что казалось важным редактору. Наиболее ранний из таких сборников, дошедших до нас – Лаврентьевская летопись. Все последующие летописные своды-сборники связаны между собой в непрерывную нить, тянущуюся вплоть до 60-х гг. XVI в. Не следует переоценивать оригинальность этого подхода. Сравнение его с германской школой изучения древних текстов демонстрирует между нами связь. Нам представляется, что выводы П. М. Строева вдохновлялись европейской критикой текста и, вероятнее всего, даже извлечены из нее 1.
Идея П. М. Строева о летописях как сборниках нашла широкий отклик в научной среде. Казалось, был найден, наконец, тот ключ, используя который можно восста- новить древнейшие периоды русского летописания. До самого конца XIX в. эта мысль разрабатывалась и апробировалась на отдельных летописных текстах. Именно так смотрели на летописи И. И. Срезневский, М. И. Сухомлинов, И. Д. Беляев, Н. И. Костомаров, М. П. Погодин и др.
Но П. М. Строев не разработал способов превратить свою идею в практический метод исследования. Это сделал К. Н. Бестужев-Рюмин пятьдесят лет спустя. Именно он сделал вывод, произведший большое впечатление на современников: раз «Повесть временных лет» (ПВЛ) – сборник, т. е. она вся «сшивная», то она может быть разложена на составные источники. Вероятно, именно эта фраза Бестужева-Рюмина дала впоследствии основание М. Д. Приселкову и Я. С. Лурье называть его метод «методом расшивки».
Под пером Бестужева-Рюмина сам процесс возникновения сводов стал выглядеть иначе, чем у П. М. Строева. Он представлялся уже не просто работой «невежественных собирателей», разрезавших на куски и заново сшивших, на свой страх и риск, древние княжеские летописи, но как в значительной степени творческая работа. В историографии встречается полное уподобление К. Н. Бестужева-Рюмина П. М. Строеву, при этом считается, что и Бестужев-Рюмин представлял себе летописные своды как механическое соединение разнородного материала. Следует согласиться с Хартмутом Клингером, автором монографии о К. Н. Бестужеве-Рюмине, не разделявшим такую точку зрения. В частности, он возражал Х. Г. Грабмюллеру [Klinger, 1980. S. 74; Grabmüller, 1976. S. 410; Jahrbücher, 1977], объясняя подобное заблуждение неправильной трактовкой слова «архив», которое употреблял Бестужев-Рюмин в отношении ПВЛ, но которое у него вовсе не подразумевало механического соединения источников, – напротив, Бестужев-Рюмин подчеркивал большой труд составителя летописи и его литературный талант [Klinger, 1980. S. 75–76].
Постепенно исследователи стали различать понятия летописного свода и летописного сборника. И вскоре под летописным сводом стали понимать две различные вещи. Исследователи школы Шахматова понимали под летописными сводами несохранившиеся и гипотетически восстанавливаемые общие протографы реально сохранившихся летописей 2. Но ученые других направлений, отталкиваясь от строевского понимания свода, стали использовать это слово как синоним летописного произведения, характеризующий природу летописания вообще. Так понимал свод М. Н. Тихомиров, первым назвавший обнаруженную и публикуемую им рукопись сводом [Московский летописный свод..., 2000]. Поскольку именно М. Н. Тихомиров стал ключевой фигурой в издании в советское время «Полного собрания русских летописей», название «своды» стало общеупотребительным.
Под летописным же сборником стали понимать рукопись, содержащую набор отдельных исторических сочинений, не связанных происхождением. Таким образом, когда-то единое понятие сборника-свода было разведено. Между тем собранный исследователями материал, во всяком случае если говорить о позднем летописании (XVII–XVIII вв.), позволяет вновь поставить вопрос об использовании понятия «сборник» как определяющего суть летописных произведений этого времени.
История текста Нового летописца (НЛ) – пример позднего летописного произведения, имеющего длительную историю бытования в рукописных списках. Восемь лет назад в книге о НЛ автор настоящей статьи привел результаты исследования большой группы списков этого памятника, пытаясь установить историю его текста. Но тогда не ставилась задача специально писать о летописных сборниках, хотя многие списки НЛ сохранились именно в составе сборников. И теперь приходим к выводу, что можно использовать собранный ранее материал для рассмотрения проблемы, вынесенной в заглавие настоящей статьи.
Не будем сейчас рассматривать тексты НЛ с оригинальными продолжениями (см. об этом: [Жарков, 1967. С. 19; 1973. С. 190– 196; Вовина-Лебедева, 2004. С. 70–82, 100– 122] и др.) и разбирать компиляции из разных исторических повествований о Смутном времени с включением текста НЛ. Дело в том, что для проблемы сборников важнее то, к каким текстам НЛ присоединялся, по- скольку он рассказывает русскую историю не с древности, а лишь с конца царствования Ивана Грозного (что и отражено в его названии). Поэтому, его часто ставили после других сочинений, охватывающих начальный период. Получалось историческое повествование с начала Руси до середины XVII в. Важно также то, что́ заполняло в сборнике временной промежуток между предыдущим историческим текстом и НЛ.
НЛ чаще всего соединялся с крупными текстами исторического характера, сопоставимыми с ним по объему или даже намного более крупными. Зачастую в одном сборнике с НЛ соединялись несколько таких памятников или выдержек из них. Они играли в сборнике роль начала, а НЛ – завершения. Прежде всего, речь пойдет о Никоновской летописи и Степенной книге. Одна из редакций НЛ дошла в составе Троицкой редакции Никоновской летописи (далее – Ник.) Это означает, что в этой группе списков текст НЛ следует за Ник. Б. М. Клосс полагает, что эта редакции была составлена около 1637 г. [1980. С. 39]. Три ранних списка датируются 1630-ми гг. – серединой XVII в., есть еще две копии второй половины XVIII в.
НЛ не стал в этих списках частью текста Ник. Вслед за Ник. в них помещена «Повесть о честном житии» царя Феодора Ивановича, а затем НЛ. Оба эти произведения идут под отдельными заголовками. Таким образом, перед нами – типичный сборник [Вовина-Лебедева, 2004. С. 39–42]. Все рукописи этой редакции Ник. имеют одинаковое продолжение, состоящее из «Повести о честном житии» и НЛ. И это означает, что переписыванию подвергался в известных нам случаях именно сборник целиком. Рукопись БАН, Арх., № 412 (конец XVII в.) содержит Повесть о начале Москвы вид 1, гр. 2, несколько глав Никоновской летописи, «Повесть о честном житии» царя Федора Ивановича, НЛ [Там же. С. 177].
Б. М. Клосс показал, что список РГБ, Собр. Ундольского, № 754 содержит текст НЛ, первоначальный по сравнению с тем, что читается вместе с Ник. Этот список – конволют [Там же. С. 42–48]. В данном случае для нас это не имеет значения, так как для настоящей темы безразлично, переписывались ли одновременно составителем сборника его части из разных источников или составлялись (полностью или частично)
из частей разных списков, переписанных кем-то другим. Нам интересен лишь состав сборника. Рукопись содержит часть текста Софийской 1 летописи, которая с 1303 г. продолжена выписками из Хронографа 1617 г., Никоновской летописи и Степенной книги. Затем идет текст Летописца начала царства в редакции 1556 г. [Клосс, 1980. С. 277–278]. Конволют составлен, по мнению Б. М. Клосса, не ранее 1623 г. Все части были соединены как отдельные сочинения, но вместе представляли русскую историю в целом, доведя ее до современного составителю времени.
Соединение НЛ со Степенной книгой (далее – Степ.) встречается наиболее часто. Пример – рукопись РГБ, ф. 178, № 5408 (середина XVIII в.) [Вовина-Лебедева, 2004. С. 48–50]. Текст НЛ в этом списке соответствует той редакции, которая читается в списках с Ник. Ясно, что когда-то переписчик или не воспринял НЛ как часть Ник. (и переписал его отдельно), или же у него был экземпляр только последней части сборника с Ник., где читался только НЛ. Также интересно, что в этом сборнике отсутствует «Повесть о честном житии», сопровождающая текст НЛ в списках Ник.
В этом случае соединение Степ. с НЛ осложнено и другими сочинениями. После Степ. помещен текст «Повести о прихожде-нии Стефана Батория на град Псков» (т. е. самостоятельного произведения), Повести о перенесении иконы Николы Заразского (также самостоятельное произведение), а также грамота Дмитрия-толмача архиепископу Геннадию, Повесть о белом клобуке и Список ханских ярлыков митрополитам. Только затем идет НЛ. По-видимому, в этом случае у составителя не было задачи (или же не хватило умения) расставить эти произведения в хронологическом порядке. Однако это случай не типичный. Такие примеры скорее редки. Можно указать еще на рукопись из ОР Национальной библиотеки Украины им. В. И. Вернадского, 366 П/220 (конец XVII – начало XVIII в.), содержащую отрывок текста о заговоре Цыклера, отрывок из письмовника, Александрию, НЛ, отрывки из «Звезды пресветлой» и Беседу трех святителей [Там же. С. 149].
Другой пример являет список НЛ БАН, ПI.А.13 (конец XVII в.). Это конволют из: 1) Степ., Хронографа, Послания Ивана Грозного Андрею Курбскому, выписок из
Жития митрополита Филиппа, Повести о разорении Новгорода Иваном Грозным, Хронографа 1617 г.; 2) окончания Ник. с «Повестью о честном житии царя Федора Ивановича» и НЛ; 3) Родословной книги [Вовина-Лебедева, 2004. С. 50–51]. Очевидно, перед нами случай, когда НЛ в той же редакции, что и НЛ с Ник., переписан отдельно от Ник., но следы его изначального пребывания в одном сборнике с Ник. остались. Но здесь уже все сочинения выстроены в исторической последовательности. И такую картину мы видим в большинстве сборников с НЛ.
Другой пример соединения НЛ со Степ. – список РГАДА, ф. 181, № 28/36. Конец XVII в. [Там же. С. 153–154]. Особенности списка указывают на то, что в его протографе НЛ не был соединен со Степ., значит, это соединение – результат трудов последующих переписчиков. Списки НЛ со Степенной книгой относятся к разным группам и не восходят все к одному корню [Там же]. Это говорит о том, что два памятника соединяли разные переписчики, независимо друг от друга. Причину можно понять: это было наиболее подходящее соединение, позволяющее охватить всю русскую историю.
Существует отдельная группа списков конца XVII в., в которых НЛ предшествуют Степенная книга и Строгановская летопись Краткой редакции (РНБ, Софийск., 1378; БАН, 16.12.1; РГБ, ф. 256, № 259; ГИМ, Барс., № 1852) [Серов, 1991. С. 53–54; Вовина-Лебедева, 2004. С. 162–164]. Л. В. Черепнин полагал, что такое соединение НЛ со Степ. произошло в результате деятельности Записного приказа [1993]. Как отметил исследователь Степенной книги А. В. Сире-нов, список РНБ, Софийск., № 1378, «скорее похож на рукопись, созданную в монастырском скриптории» [2007. С. 425–426]. Исследование списка РНБ, Софийск., № 1378 дает основание думать, что все остальные списки группы пошли именно от него. Он представляет собой конволют. Первоначально НЛ был соединен только со Строгановской летописью. Именно это соединение (третья четверть XVII в.) читается во второй части конволюта. В первой части читается Степ. Младшего извода Пространной редакции (список датируется третьей четвертью XVII в.) [Там же. С. 266].
Во всех списках этой группы НЛ начинается с середины первой главы, повествую- щей о походе Ермака в Сибирь. Вероятно, в протографе было утрачено начало. Соединение НЛ со Строгановской летописью можно объяснить в данном случае именно этим. Переписчик понял, что текст начинался с истории завоевания Сибири, поэтому дополнил его имеющимся у него под рукой аналогичным (как ему казалось) или даже лучшим – т. е. более пространным (поскольку Строгановская летопись, конечно, более подробно описывает события, чем НЛ) текстом. Что же касается времени составления конволюта, от которого пошли остальные списки, т. е. рукописи Софийск., 1328, можно предположить, что он был составлен тем же лицом, которое соединило НЛ со Строгановской летописью, то датировать его можно концом третьей четверти XVII в. На это указывает то обстоятельство, что заголовок НЛ в этом списке стилизован под заголовки Степ., на что обратил внимание и А. В. Сиренов [Там же. С. 425].
В других списках перед нами более простое соединение Степ. и НЛ в сборник, как в списке РГАДА, ф. 181, № 352/801. Вторая половина XVII в.
Представляют интерес списки так называемого Летописца Славянороссийского – сборника исторических произведений, составленного в 1698 г., о чем сказано в предисловии к тексту, представляющему собой, по сути, исторический сборник: РНБ, F.IV.226; РНБ. А/Н, 6(2) и РНБ, НСРК, F473; БАН, 33.10.5; Национальная библиотека Украины им. В. И. Вернадского, Неж., № 123, Харьковского государственного университета, № 167/С. Списки указаны и описаны А. В. Сиреновым. В основе – контаминированный текст Степ., соединенный с НЛ [2007. С. 483–504; Вовина-Лебедева, 2004. С. 185–187]. В некоторых списках содержатся в качестве продолжения Степ. только четыре первые главы НЛ, а затем компилятивный текст о Смуте на основе Хронографа 1620 г., после него некоторые известия о Смоленской войне, совпадающие с текстом Летописца 1686 г. В другом списке Степ. продолжается текстом Жития митрополита Филиппа, повестями о походе Ивана Грозного на Новгород, о приходе Девлет-Гирея, о походе Стефана Батория на Псков, РЛ (вид Б), т. е. текстами, которые читаются и в Своде 1652 г. Затем помещен текст НЛ без двух начальных «сибирских» глав [Вовина-Лебедева, 2004. С. 186–187].
В списке РГБ, ф. 256, № 416 (середина XVIII в.) после Степ. (текст ее идет, начиная с княжения Ивана III) без отдельного заголовка помещены главы о Сибири, но не начальные главы НЛ, а текст, близкий к Окладной книге Сибири и Латухинской Степенной книге [Вовина-Лебедева, 2004. С. 189; Дворецкая, 1957. С. 480], «Описанию Сибири» [Сибирские летописи, 1908. С. 367–397], но с дополнением «сибирских» статей НЛ, затем помещен контаминированный текст НЛ с продолжением, отчасти аналогичным Своду 1652 г. После него вновь помещен текст, озаглавленный «Выписано из Степенной Волынского», начиная с известий о Ливонской войне и заканчивая известием о казни новгородцев в период опричнины [Вовина-Лебедева, 2004. С. 191].
Еще одно крупное сочинение, к которому присоединялся НЛ, – Казанская история (Казанский летописец, далее – КЛ). Пример – рукопись ОР Саратовского университета, Собр. Мальцева, № 186 (конец XVII – начало XVIII в.) [Там же. С. 59–60]. Сборник содержит КЛ, список грамоты Константина папе Сильвестру, комплекс грамот, касающихся псковской архиепископской и новгородской митрополичьей кафедр, список с грамоты царя Василия Шуйского В. П. Морозову, НЛ. Тексты размещены в исторической последовательности.
Другое соединение НЛ с КЛ – список РНБ, Q.XVII.696 (1670–1680-е гг.) [Там же. С. 137–138]. Тот же состав имеется в сборниках РНБ, Q.XVII. 322 и РГАДА, ф. 181, № 22 [Там же. С. 122].
В рукописи Погод., № 1403 [Дубровина, 1989. С. 123] последовательность иная: Новгородский летописный свод, КЛ, НЛ, родословная роспись, Сказание о Дракуле. Из-за последнего сочинения этот список оказывается в упомянутой выше редкой группе сборников с НЛ без хронологической последовательности, хотя в основной части сборника она имеется. Тот же состав наблюдаем в рукописи ГИМ, Увар., № 568. Сходно: ГБЛ, ф. 178, № 733. Такая же последовательность в списке городской библиотеки г. Вестероса – собрание Спарвен-фельда, список Ad 12 [Вовина-Лебедева, 2004. С. 142–146].
Одну из хорошо и давно изученных редакций текста НЛ представляет список Оболенского (РГАДА, ф. 201, № 57), который датируется 1680–1690 гг. [Жарков, 1973. С. 297–298] Особенностью тут являются начальные исторические главы, которые повествуют о зарождении русской истории. Это отрывочные известия с поздними искажениями, но они сразу превращают рукопись в летописный сборник.
Аналогичные списки: РГБ, ф. 205 (ОИДР), № 358 (конец XVII в.) и ГИМ, Забел., № 269 (середина XVIII в.) [Вовина-Лебедева, 2004. С. 86–100]. Перед текстом НЛ помещен компилятивный «Летописец», имеющий соответственное название. Он воспринимается как отдельный от НЛ текст. В списке РГБ в конце его помещен рисунок веточки с цветами, выполненный пером, – явное указание на концовку. Содержание «Летописца» – краткий перечень событий «от Адама», затем кратко события русской истории от Рюрика под заглавием «О начале Русская земля и о князех како откуду были». Использованы сюжеты из Степенной книги (например, эпизод знакомства князя Игоря с Ольгой при переправе через реку). Подробно рассмотрено все, что связано с Ольгой, местью за смерть Игоря, а также княжение Владимира, крещение Руси, смерть Владимира и междоусобные войны. Последняя главка этого раздела «О убиение Глебове». Затем рассказ сразу переходит к Даниилу Московскому, тут же помещен разряд похода Ивана Васильевича против Ахмата, затем известие о смерти Василия Ивановича и разряд похода Ивана Васильевича (Грозного) в Казань, Псков и ливонский поход.
Свод 1652 г. – это летописная компиляция, которую также можно назвать сборником. Содержание его начальной части рассмотрено А. В. Лаврентьевым [1989; 1993]. НЛ предшествует текст Румянцевского летописца (далее – РЛ), вид Б.
К одному протографу со Сводом 1652 г. восходит и поздняя редакция НЛ, называемая «Летописью о многих мятежах» (далее – ЛММ). Они имеют сходное продолжение, помещенное после НЛ [Вовина-Лебедева, 2004. С. 100–122]. Но сочинения, объединенные в составе Свода ЛММ, встречаются друг с другом и с НЛ и еще в нескольких рукописях. Так, в рукописи РНБ, Ал-Невск., № А6 (2) читается Степ., продолженная второй частью Свода 1652 г. Возможно, был использован дефектный список Свода 1652., не имеющий начала, и потому соединенный, как это часто делалось, со Степ.
Выше уже указывался вариант соединения НЛ с РЛ, входящий и в состав Свода 1652 г. Другой пример – РГАДА, ф. 201, № 41. Этот сборник включает Повесть о начале Москвы, продолженную известиями о рождении Ивана Грозного, о постройке церкви Иоанна Предтечи, Грановитой палаты, перестройке церкви Николы Гостунско-го и другие известия этого же времени, затем помещен РЛ, вид А, и НЛ. По-види-мому, перед нами в данном случае собрание всего, что было под рукой у составителя, но выстроенное в хронологическом порядке.
В текстологии НЛ особое место принадлежит рукописи-конволюту РГБ, собр. Овчинникова, 482, поскольку это архетипный список Академической редакции НЛ [Вовина-Лебедева, 2004. С. 122–123]. Первая часть конволюта (вторая половина XVII в.): Хронограф, Повесть о царице Динаре, Повесть о Казарине, Повесть о Митяе, Повесть о походе Ивана Грозного на Новгород, Повесть о Словене и Русе (далее – ПСР). Вторая часть (1630-е гг.) содержит НЛ.
Далее будет показано, что случаи соединения НЛ с ПСР встречаются весьма часто. Мы предполагаем, что впервые это произошло именно в списке из собр. Овчинникова, 482. Другие варианты таких соединений ПСР имеем в рукописях, приведенных ниже: РГАДА, ф. 181, № 61/84 (вторая половина XVII в.) [Там же. С. 126–129]. СПбИИ РАН, ф. 11, № 24: сокращение ПСР, выписки из Степ., НЛ с продолжением [Там же. С. 129]. Список РГАДА, ф. 181, № 14/15 (1740-е гг.) [Там же. С. 132–135] представляет соединение выписок из ПВЛ, ПСР, Степ. и польских хроник (изложение событий до прихода Болеслава Польского), повесть о святых местах Иерусалима, НЛ. У всех этих списков был общий протограф, и он уже содержал соединение НЛ и ПСР [Там же. С. 127]. Таким образом, по-види-мому, копировался сборник целиком, а потом делались дополнения. Если переписчику хотелось дать что-то между IX и XVI в., то он вставлял выдержки из Степ., как в РНБ, Погод., № 2016 и Вяз., F-49.
Возможно, к другому протографу восходит список РНБ, Погод., № 2016 (середина XVII в.) [Там же. С. 125–126]. Сборник содержит ПСР с продолжением до 1547 г., выдержками из Степ., затем НЛ. В данном случае происхождение сборника иное, чем предыдущих, поскольку он содержит текст
НЛ другой редакции. В рукописи РГАДА, ф. 357, № 53 (конец XVII в.) [Там же. С. 161–162] читаются ПСР, выдержки из Степ., Сказание о Вологодском Спасо-Каменном монастыре, НЛ, Житие архимандрита Дионисия. Близок по содержанию и сборник РНБ, Вяз., F-49 (середина XVIII в.) [Там же. С. 129–132], содержащий ПСР, выписки из Степ. и НЛ.
Исследователи поздних летописных компиляций всегда стремились обнаружить в них какую-то основополагающую идею, обнаружить редакторскую правку определенной идейной направленности. Это позволяло выделить этапы истории текста. Так, исследователь Летописца 1686 г. А. П. Богданов указал на то, что все его части объединяет мысль о законности притязаний московских царей на киевские земли [1994; Вовина-Лебедева, 2004. С. 168–169]. В основе Летописца 1686 г. лежит соединение Хронографа редакции 1617 г. и НЛ (состав разных списков Летописца различается) с действительно оригинальным продолжением (включающим Так называемый Летописец Ф. Ф. Волконского), в котором проявлен интерес к южнорусским землям, что естественно в момент заключения Москвой Вечного мира с Речью Посполитой. Но Богданов не смог показать, что соответствующей обработке подверглись и тексты Хронографа, и НЛ. Таким образом, мы можем говорить об особой направленности только той части Летописца, которая расположена после НЛ. А это означает, что перед нами, по сути, летописный сборник. Составитель его собрал вместе произведения, которые выстраивали русскую историю от начала до современного ему времени. В заключительной части он прославил возврат Москвой южнорусских земель. А. П. Богданов охарактеризовал Летописец 1686 г. как «один из наиболее цельных и ярких в литературном отношении русских летописцев второй половины XVII в.». Но в целом, пока еще нужно доказать, что это не обычное для летописных компиляций XVII в. рыхлое объединение разного рода произведений в приблизительной хронологической последовательности. Тем более что в состав Летописца 1686 г. входят произведения, которые в других списках НЛ также встречаются в одних рукописях с ним: Степ., Повесть о разорении Новгорода Иваном Грозным, ПСР. Один из таких списков НЛ, уже со- единенных с ПСР и Повестью о походе Ивана Грозного на Новгород, мог стать протографом Летописца 1686 г. Вероятно, сначала такой список был обогащен продолжением до 1686 г. На это указывает тот факт, что встречаются списки НЛ с продолжением до 1686 г., но без Степ. В состав рукописи Национальной библиотеки Украины им. В. И. Вернадского, собр. Киевского университета (VIII), 115 м входят: Повесть о начале Москвы, Повесть о походе Ивана Грозного на Новгород, ПСР, НЛ с продолжением до 1686 г. (причем, оглавление НЛ дано перед текстом ПСР) 3. Существуют рукописи, по составу близкие некоторым рукописям, содержащим Летописец 1686 г., но без самого Летописца. В рукописи РНБ, F.IV.207 соединены Степ. и Хождение Трифона Коробейникова, а также имеются другие особенности, как и в списке Летописца 1686 г. РНБ, F.XVII.16 [Вовина-Лебедева, 2004. С. 173–174].
Рукопись ИРЛИ, Древлехранилище, оп. 23, № 200 (1672 г.) представляет соединение Шестоднева, Хронографа, Повести о походе Ивана Грозного на Новгород Забелинской редакции и НЛ со вставками из Иного сказания, Сказания Авраамия Палицына, Хронографа 1620 г. Владельческая запись на этой рукописи гласит, что она была «собрана» в 1672 г. [Там же. С. 174–176]. Иначе говоря, «сборник» – это адекватное название, так понимал суть рукописи составитель (владелец).
Соединение НЛ с ПСР и Повестью о походе Ивана Грозного на Новгород читается также в списках Новгородской Забелинской летописи (ГИМ, Забел., № 261 и др.). Списки изучены и описаны С. Н. Азбелевым [1968. С. 71–76, 202–221]. Эти же два произведения (вообще часто сопутствующие НЛ) читаются в рукописи Овчинникова, 482. Значит, при составлении Забелинской летописи был использован список НЛ типа Овчинникова, 482, т. е. уже соединенный с ПСР и Повестью о походе Ивана Грозного на Новгород [Вовина-Лебедева, 2004. С. 178–181].
Как уже было показано, частым соседом НЛ в сборниках является Путешествие Трифона Коробейникова. Рукопись РГБ, ф. 299 (Собр. Тихонравова), № 533 [Там же.
С. 182–183] (последняя четверть XVII в.) представляет соединение НЛ с продолжением до 1652 г. (совпадающим со Сводом 1652 г.) и Путешествия Трифона Коробейникова, помещенного после НЛ с продолжением. Сборник БАН, 16.4.5 (первая половина XVIII в.) включает Хронограф, оканчивающийся Путешествием Трифона Коробейникова, затем НЛ со вставками известий Хронографа 1620 г. и Сказания Ав-раамия Палицына, затем продолжение, совпадающее со Сводом 1652 г. и ЛММ. После него помещены разрядные записи, начиная с Русско-польской войны и похода на Вильну и до 1667 г. После этого помещен текст «О ведомости о Китайской земли и о глубокой Индеи», а затем «Повесть от древнего писания о создании Цареграда» [Там же. С. 191–193].
Почти все компиляции, о которых шла речь, датируются XVII – началом XVIII в. (если не считать списков, сделанных с них позднее). В XVIII в. НЛ продолжал активно переписываться, но, по-видимому, на основе НЛ в это время уже не составляются исторические сборники. История текста НЛ показывает, что именно XVII столетие и рубеж веков – время расцвета особого типа исторической компиляции, когда главным приемом было составление исторических сборников, позволяющих сравнительно легко выстраивать из разных по содержанию и направленности сочинений единую «летопись».
ON THE HISTORY OF CHRONICLE COMPILATIONS OF 17th–18th CENTURIES