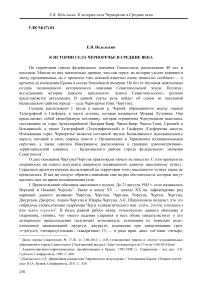К истории села Черноречье в средние века
Автор: Неделькин Е.В.
Журнал: Материалы по археологии и истории античного и средневекового Причерноморья @maiask
Рубрика: История
Статья в выпуске: 6, 2014 года.
Бесплатный доступ
В данной статье рассмотрен один из важных аспектов истории с. Черноречье (Чоргунь), находящегося на территории города федерального значения Севастополя, - средневековый период его существования. Автор привел аргументы, которые свидетельствуют о существовании этого селения уже в XV в. на территории греко-готского княжества Феодоро. Затем последовательно рассмотрен слабо представленный в письменных и археологических источниках период истории этого населенного пункта с XV в. до вхождения Крыма в состав Российской империи в 1783 г.
Черноречье, чоргунь, феодоро, османская империя, xv в
Короткий адрес: https://sciup.org/14118095
IDR: 14118095 | УДК: 94(47).04
Текст научной статьи К истории села Черноречье в средние века
На территории города федерального значения Севастополь расположено 40 сел и поселков. Многие из них значительно древнее, чем сам город: их история уходит корнями в эпоху средневековья, но о прошлом этих селений известно очень немногое, особенно — о времени до вхождения Крыма в состав Российской империи. Но без ее изучения невозможно создать полноценного исторического описания Севастопольской земли. Поэтому, исследование истории каждого населенного пункта Севастопольского региона представляется актуальным. В данной статье речь пойдет об одном из поселений Балаклавского района города — селе Черноречье (быв. Чоргунь).
Селение расположено у входа в каньон р. Черной, образованного между горами Телеграфной и Гасфорта, в части долины, которая называется Мокрая Луговина. Она представляет собой своеобразную котловину, которая ограничена Чоргунскими высотами, состоящими из горы Артиллерийской (Батарья-Баир, Чакла-Баир, Чакыл-Таш), Средней и Безымянной, а также Телеграфной (Телеграфической) и Гасфорта (Гасфортова высота, Итальянская гора). Черноречье является составной частью Балаклавского муниципального округа, который в свою очередь вместе с Орлиновским и Терновским муниципальными округами, а также городом Инкерманом, расположены в границах административнотерриториальной единицы — Балаклавского района города федерального значения Севастополя1.
О дате основания Чиргуны/Чоргуня практически ничего не известно. С того времени не сохранилось ни одного документа, напрямую посвященного данному населенному пункту. Серьезных археологических исследований на территории этого населенного пункта также не проводилось. И все же следует обратить внимание еще на ряд обстоятельств, которые могут пролить свет на время возникновения села:
-
I. Происхождение ойконима населенного пункта. До 21 августа 1945 г. село называлось Верхний и Нижний Чоргунь2. Также в конце XV — начале XX вв. зафиксирован ряд вариаций данного названия: Чиргуна, Чергона, Чиргона, Чоргуна, Чоргун, Чергуна, Джургани, Джоргун, Ашага-Чоргуна и Юкары-Чоргуна. А.К. Шапошников полагает, что это гибридное словосложение гидронима Чер и эллинистического ион. gou`na , gounov" («колено») или gwniva («угол»)3. В более ранней работе автор, относительно данного ойконима и гидронима, говорил, что «место падения ударения и весь облик свидетельствует о его дотюркском происхождении (исключает возможность толкования из тюркских родоплеменных наименований джургун, джуркун), искажение при заимствовании греч. tetravgwnh «четырехугольная», «квадратная» (?) … в ряде иран. диал. cor<čatur «четыре,
четырех-» и gun «угол» (?)»4. А.Н. Ахаев также выводит этот топоним из иран. чор — четыре и гунь — угла, места5. В.Г. Шавшин, не приводя никаких доказательств, говорит, что «его истоки от родоплеменного названия — Ошак, Очак, Ача»6. Гипотеза В.А. Бушакова о тюркском или монгольском происхождении этого ойконима7 не обоснована и вообще маловероятна8.
При рассмотрении данного вопроса определенный интерес представляет генуэзский документ 1461 г., в котором среди поименных пунктов К. Десимони отметил один из них — Baganda, помещая его в Готии9. А.Л. Бертье-Делагард, не давая точной локализации данному пункту, предполагал, что это одно из урочищ на Южном берегу Крыма, то есть на территории генуэзской Готии10. В.Л. Мыц справедливо заметил, что наиболее близким по звучанию Boganda (Боганда) является гидроним Brgana (Бргана) или Bargana (Баргана)11, означающий один из притоков реки Черной, впадающий в нее в районе Чоргуня12. Из этого следует, что это селение уже могло существовать во второй половине XV в., и находиться на территории Готии, которая была под юрисдикцией владетелей греко-готского княжества Феодоро. Это подтверждается и отчасти данными османских налоговых ведомостей, в которых селение начинает фигурировать с 20-х гг. XVI в. под названием Чиргуна/Чоргуна.
Но, что более вероятно, фигурирующий в документе конца XV в., о котором подробнее будет сказано ниже, ойконим селения — Чиргуна/Чоргуна и есть наиболее приближенный к первоначальному/автохтонному варианту.
-
II. Географическое положение Черноречья. Село разделено на две части — Верхнее и Нижнее Черноречье13. Оба населенных пункта лежат практически на одном уровне, а по отношению к течению реки Нижнее Черноречье примерно на два километра ниже Верхнего. Гипотетически, можно предположить, что эта топонимическая особенность последствие средневекового разрастания этого селения с образованием нескольких сельских общин, которые объединились в «общество». Образовалось оно, видимо, путем расширения
населенного пункта, от которого отделилось дочернее поселение, которое приобрело со временем полную автономию в самоуправлении. При этом в таких поселениях в совместном пользовании оставались леса, реки, выпасы, сенокосы, колодцы, озера, дороги и прочее14.
-
III. Наличие в селе, рядом с Чоргунской башней, еще в 60-х гг. XIX в. руин небольшого одноапсидного храма15. Учитывая тяжелое положение христианского населения в Таврике после 1475 г., доходившего до рабского обращения, ущемления в правах, уплаты повышенных налогов, запрета строительства церквей и установки на них крестов16, в результате чего к 1783 г. уцелело только 33 церкви и 1 монастырь17, то вероятнее всего, храм в Чоргуне был возведен до османского завоевания. Однако, он мог действовать и некоторое время после захвата Таврики, так как еще в XVI в. в селе была большая православная община18.
-
IV. Следующим обстоятельством, которое может указывать на возникновение этого селения в XV в., как уже выше было сказано, является наличие на его территории так называемой Чоргунской башни, которая, возможно, была возведена в 30—40-х гг. XV в. правителем Феодоро Алексеем I (Старшим) (1411—1446 гг.) на юго-западном порубежье княжества и сочетала в себе донжон и сторожевую крепость19.
В связи с изложенными выше аргументами, свидетельствующими о существовании села, по крайней мере в XV в., возникает вопрос о локализации, упомянутой в письме от 9 июля 1434 г. знатного генуэзского нобиля, политика, банкира, адмирала и купца Карло Ломеллини20 своему племяннику Матео Ломеллини, крепости Брозони (Brozoni), название которой может быть искаженным ойконимом Баргана/Чиргуна. Он пишет, что «после того, как была одержана победа над Чембало, Каламитой, Брозони и тамошней Готией, мы прибыли в Каффу»21. Источником, который также может пролить свет на локализацию Брозони, является запись из хроники Андреа Гатари о том, что после захвата Каламиты (10 июня 1434 г.) «сухопутное войско, образовав ряды, получило приказ идти по дороге Готии проводить набеги»22. Из сообщения А. Гатари следует, что после захвата Каламиты генуэзские войска напали на территорию феодоритской Готии. Значит, упомянутая в письме Карло Ломеллини, также после захвата Каламиты, крепость Брозони, вероятнее всего, находилась на территории, попадавшей под юрисдикцию правителей Феодоро. На роль этой крепости подходит Чоргунская башня, являвшаяся единственной крепостью в долине р. Черной.
В.Л. Мыц полагает, что возможно, землями, на которых находится Чоргунь, владел один из сыновей Алексея I (Старшего)23. Это вполне вероятно, учитывая, что государство Готия, состоявшее из разделенных горами долин, во второй половине XV в. было разделено на уделы («части»), которых было, как минимум, одиннадцать. Владели же ими сыновья Алексея I (Старшего) и иные представители правящей династии24.
Возможно, находившаяся в селе Чоргунская башня выполняла функции своеобразной таможни. Контролируя большую транспортную артерию, по которой велась торговля с главным опорным пунктом лигурийцев в этой части Таврики — Чембало. Местное же население, вероятно, втягивалось с Чембало в товарно-денежные отношения, рост которых наблюдается в XV в.25. Еще в конце XIV в. Чембало становится значительной по товарообороту факторией, на рынке которой продавали кожу, лен, соль, зерно, вино, рыбу, фрукты, овощи, доставляемые из селений Готии26. Размеры налогов, которыми облагались товары ввозимые, в частности с территории феодоритской Готии, и продаваемые в Чембало были строго регламентированы Уставом 1449 г.27 (утвержден в Генуе 28 февраля 1449 г.). Так, например, «пристав имеет право взымать и получать с каждого воза плодов, привезенных в Чембало, по одному аспру с половиной и столько же с воза соли и муки…»28, или мог «взымать с каждого ведра вина продаваемого в Чембало и в пределах Чембальского места (территория консульства Чембало — Е . Н .), по одному аспру…»29. Также, вполне вероятно, в Чембало могли доставлять с территории Готии дрова для «отопления ратуши», на что ежегодно выделялось 700 аспров30.
Также Устав 1449 г. содержит интересные сведения о сельских общинах Готии. Так в главе № 35, озаглавленной «О том, чтобы не давать взаймы общинам Готии», говорится:
«Постановляем и повелеваем, чтобы никакой генуэзец не смел и не думал давать взаймы никакого количества денег общинам селений и других мест Готии, или налагать на эти общины какое-нибудь обязательство продажею товаров или другим образом…»31. По мнению В.Л. Мыца, общины Готии для своевременной выплаты налогов (30 тыс. номисм) князю «вынуждены были брать деньги взайм, что ставило их в зависимость от итальянских купцов, а это, в свою очередь, приводило к трениям между Колонией и княжеством Феодоро»32.
Однако не стоит забывать и о том, что, вероятнее всего, это селение тяготело и входило в сферу влияния, отстроенной на месте раннесредневекового укрепления в 1427 г. князем Алексеем I (Старшим) и ставшей единственным портом княжества, крепости Каламита. За полвека со времени основания Каламита развилась в небольшой портовый город, центр достаточно плотно населенной округи, выполняющий важные коммерческие, военные и идеологические функции33.
О достаточно высоком уровне развития региона, где находилось селение, свидетельствует сообщение побывавшего в 1395 г. в юго-западной Таврике, и в частности — Инкерманской долине34, иеромонаха Матфея, который говорил, что эта «земля весьма богата фруктами и зерном; диких животных и прирученных в большом количестве носит на себе; гавани изобилуют массами рыб»35;36. Возможно, особую статью доходов этого селения составляло производство вина, так как немецкий (баварский) солдат, а в последствии путешественник Иоганн Шильтбергер, побывавший в Таврике в начале XV в. отмечал, что «греки-христиане, населяющие горную часть полуострова (Готию — Е.Н. ) производят превосходное вино37»38.
Новая страница истории Чиргуны начинается после трагических событий лета 1475 г., когда в Таврику вторглись османские завоеватели во главе с великим визиром Гедик Ахмед- пашой39. Стратегия обороны, выстроенная последним феодоритским князем Александром (1475 г.), предусматривала отзыв всех гарнизонов крепостей княжества Феодоро в столицу. Ведь оставлять гарнизоны маломощных пограничных крепостей на расправу туркам представляло бы собой недальновидный поступок40. Очевидно, также был отозван и небольшой гарнизон Чоргунской башни.
После полного завоевания османами Генуэзских колоний в Таврике и последнего оплота православия на полуострове в Средние века — Феодоро, которое завершилось падением в декабре 1475 г. столицы княжества г. Феодоро (Мангупа)41, была создана турецкая администрация, а их территория разделена на Кефенский, Судакский, Мангупский, Балаклавский каза/кадылыки, которые в свою очередь вместе с Керченским, Азакским и Таманским вошли в состав новообразованного Кефенского санджака42. В 1568 г. этот санджак вошел в состав Кефенского бейлербейства43 или эялета (эйялета)44.
В свое время авторитетный исследователь истории Крыма А.И. Маркевич оставил краткое, но емкое замечание о дальнейшей судьбе христианского населения после османского завоевания полуострова. Он говорил, что после падения генуэзской Каффы «пало и Мангупское княжество, последним князем которого был Исайко. Татарское владычество в Крыму переменилось на турецко-татарское, продолжавшееся три столетия, до присоединения Крыма к России, и бывшее самым тяжелым для христианского населения Тавриды. Политическое торжество ислама над христианством печально отразилось на положении христиан в Крыму»45.
Продолжая мысль ученого, «осень средневековья» (XIV—XV вв.)46 для христианской Таврики завершилась с завоеванием полуострова османами в 1475 г., и далеко не тем, чем для Западной Европы. Например, польский дипломат, находившийся в 1578 г. в Крыму свыше девяти месяцев в качестве посла польского короля Стефана Батория к крымскому хану Мухаммеду II Гираю (985—992 гг. х., 1577—1584 гг. по Р.Х.), Мартин Броневский писал, что «в местах, представляющих выгодное положение, на горах и в лесах, видны следы развалин, древних греческих замков, городов, храмов, монастырей, которые потеряли уже свои названия, оставаясь в течение стольких веков в забвении и без обитателей»47. Он также говорит, что от христиан-греков «осталась лишь одна тень их существования», а «греки христиане, живущие в некоторых деревнях, работают и возделывают поля, как невольники»48. Священник Иаков Лызлов, побывавший на полуострове с отправленным царем Михаилом Федоровичем посольством Бориса Дворянинова и Андрея Непейцына (1634—1635 гг.), описывает запустение в церквях и Инкерманской обители, и, в частности, говорит, что «по горцам многие христианские церкви разорены ж, а промеж гор живут армян и христиан много, но от насилия татарского благочестие иссякло»49.
Первое письменное упоминание о селении в период османского владычества содержится в документе из ведомства имперской казны от 12 августа 1498 г. В нем говорится, что во время пожара в крепости Мангуб, сгорел дом солдата ее гарнизона по имени Караджа Охри. Вместе с домом пламя уничтожило и привилегий выданный Карадже и его боевому товарищу на тимар, в который входили села Çergona, Elçü и Sikite. Поэтому губернатор провинции шагзаде Мехмед обратился к стамбульским властям с просьбой о выдаче нового привилегия, что и было сделано. В документе использованы данные более ранней переписи, согласно которым в селении насчитывалось 25 домохозяйств, прибыль с которых составляла 2250 акче в год50. Если принять средний размер семьи в тот период за 45 чел., то, возможно, население Чергоны в это время составляло 100-130 чел. Интересно заметить, что владелец тимара Караджа был славянином из Охрида (совр. Македония)51.
В начале XVI в. село Чиргуна/Чиргона начинает фигурировать в османских налоговых ведомостях (дефтерах). Две сохранившиеся османские переписи 1520 и 1542 гг. лива-и Кефе содержат уникальные сведения об экономике и населении юго-западной Таврики и в частности указанного селения.
В этот период село входило в состав хасса, бывшего в пользовании губернатора (санджакбея) провинции Кефе, которым в 1542 г. был Али Бей приемник Мехмед Бея. Он непосредственно представлял административную власть и собирал в свою пользу налоги52.
По данным переписи 1520 г. в Чиргуне проживало 25 полноценных православных греческих семей и 7 которые потеряли мужчину-кормильца (153 чел.), а также 6 семей мусульман (30 чел.)53. Сумма годового налогового сбора с селения в 1520 г. составила 3178 акче54. В материалах более полной переписи 1542 г.55 содержатся данные о том, что в это время православная община села состояла из 25 полных семей, 5 вдовьих и 6 взрослых холостяков (145 чел.). 36 членов христианской общины были внесены в список налогоплательщиков. В частности: Коста Алекси, Чолпан Димитри, Агаб Хараджи, Черкес Юсуф, Хараджи Алекси, Антон Йолджи, Йолджи Антон, Триндафило Сотире, Калийорги Балык, Байо Калйан, Микалбек Йорги, Бабаджи Алекси, Никола Калол, Сотире Триндафило, Тодор Йорги, Тодор Калйан, Димитри Чолпан, Тодор Агаб, Калоди Лийор56, Михал Лийор57, Калийор Фоти58, Пандази Калийори59, Конак Тодор60, Афендика Алекси61, Баба Татар Яни62, Тодор Триндафило, Калийорги Михал, Алофранко Михал, Никола Михал, Кирьязи Конак. Вдовы: Василики (муж) Кальян, Василики (муж) Калмаз, Калана (муж) Балык, Кирарин (муж) Кутлубек, Кирарин (муж) Алез. Также в списке налогоплательщиков значится раб Калоди Лийора и Михала Лийора63.
Мусульманская община селения в указанный период состояла из 8 семей и 4 взрослых холостяков (40 чел.). 12 ее членов были внесены в список налогоплательщиков. В частности: Хемзе бен Абдуллах, Искендер бен Хемзе, Юсуф бен Ильяс, Сади бен Ильяс, Ибрагим бен Ильяс, Давуд бен Юсуф, Юсуф бен Джанполад, Ахмед бен Юсуф, Давуд бен Искендер. Также в списке мусульман-налогоплательщиков Чиргуны значится подданный (крымского — Е.Н. ) хана Джанкара Татар и два пушкаря Высокого Порога — Якуб64 и Хюсейн бен Мехмед Субаши.
Общая сумма учтенных налогов составляла 4792 акче. В том числе 775 акче составлял поземельный налог с христианского населения Чиргуны и 192 акче с мусульман. Десятина с пшеницы была 1080 акче (180 кейльдже65 по 6 акче), ржи — 172 акче (43 кейльдже по 4 акче), ячменя — 112 акче (28 кейльдже по 4 акче), проса — 60 акче (12 кейльдже по 5 акче), льна — 431 акче, ульев — 365 акче, конопли — 184 акче, грецких орехов — 57 акче, сена — 57 акче, овощей — 24 акче, фасоли — 10 акче, чеснока — 9 акче, фруктов — 5 акче, чечевицы — 5 акче, лука — 2 акче. Десятина с произведенного христианами вина составляла 390 акче (65 медре66 по 6 акче), откуп же с виноградников мусульман составлял 24 акче. 682
акче было собрано за счет налога на невест, уплачиваемого при выдаче их замуж, и всевозможных штрафов, а также 60 акче в качестве подати с овец. Налог с 4 мельниц, действовавших в селе, составил 96 акче, причем с 2 он взымался по 32 акче, а еще с двух — по 16 акче67.
Однако дефтеры, являясь ценными источниками по истории селения в этот период, возможно, не отражают некоторые исторические реалии того времени. Во-первых, следует сказать о фигурирующем в дефтерах греческом населении. К концу X в. в горной Таврике завершился многовековой ассимиляционный процесс формирования горнокрымской народности. Она впитала в себя аланский, готский, ромейский и булгарский компоненты. Их объединяли христианство и византийская культура68. Усилился процесс этноконфессиональной интеграции различных групп населения в период существования княжества Феодоро, этнокультурный фон которого был греческим69. Окончательно же православное население горной Таврики консолидировалось под властью османских завоевателей, став в последствии единой греческой народностью70.
Во-вторых, перепись 1520 г. фиксирует, что в селении было 7 семей христиан потерявших мужчину-кормильца, а 1542 г. — 5. Возможно, причиной этому были не только естественные причины. Какие именно? На этот вопрос, возможно, поможет ответить сообщение Ожье Гильсена де Бусбека, который в 1555—1562 гг. был послом Австрии в Османской империи. В Константинополе ему удалось встретиться с греком и готом из Таврики, которые сообщили ему уникальные сведения о языке крымских готов, и кроме всего прочего, что готы «это воинственный народ, который и сегодня обитает во многих селах, из которых царек татар, когда он готовиться к войне, набирает восемьсот пехотинцев с огнестрельным оружием, составляющих оплот его войск»71. Речь здесь идет о еще не полностью ассимилировавшемся готском, но говорящем на греческом языке, носившем греческие имена и исповедовавшем православие, населении сел Готии, из которого к тому же комплектовалось особое подразделение пехоты в Крымском ханстве. Этих стрелков можно было использовать в качестве ханской гвардии и, возможно, в качестве военных поселян72.
Иная ситуация с христианским населением Чоргуня наблюдается спустя девяносто лет. По данным джизйе дефтера 1634 г. в составе Мангупского каза/кадылыка находилось 50 сел, в которых было 958 дворов иноверцев (немусульман), в том числе 213 семей которые переселились в пределах османских владений. В то же время 343 семей выселились в пределы Крымского ханства73. В самом Чоргуне в этот период было всего 10 дворов христиан74. Также джизйе дефтер 1634 г. содержит интересные сведения о том, что в это время из Чоргуня на территорию Крымского ханства переселилось 3 семьи христиан, которые вместе с выходцами из некоторых других населенных пунктов Мангупского кадылыка (Инкерман, Мангуб, Сурен (?), Отар, Папа Никола (?)) сформировали немусульманскую общину села Майрам75.
В 1652 г. среди населения Чоргуня христиане уже не фиксируются76. В чем же причина столь быстрого исчезновения всего христианского населения села? На этот вопрос, возможно, поможет ответить группа документов. Первый из них — это опубликованное А.В. Ефимовым письмо кефинских чиновников 1634 г., в котором указывается, что из-за нападений «злосчастных русских разбойников … крымцы остались голыми и погорельцами, райяты же рассеялись и разбежались»77. В данном случае под «русскими разбойниками» понимались казаки, о жестокости которых свидетельствует сообщение доминиканца Эмиддио Дортелли д'Асколи, в котором говорится, что «казаки разрушают, грабят, жгут, уводят в рабство, умерщвляют; часто осаждают укрепленные города, берут их приступом, опустошают и выжигают»78. Вероятнее всего, это обстоятельство, стало причиной массового выезда христиан как из Чоргуня, так и других прибрежных сел. К этому добавлялось и то обстоятельство, что, как замечал Эмиддио д'Асколи, «под татарином живешь несравненно спокойнее и платишь меньше дани, чем под турком»79. Хотя, и в Крымском ханстве христиане «лишенные строгого покровительства законов государства, представляли средину между рабом и полноправным гражданином»80.
В связи с вышесказанным большой интерес представляют материалы русских посольств в Крыму, которые в частности сохранили описание совместного похода донских и запорожских казаков в 1631 г. Из него следует, что в конце августа 1631 г., после того как казаки разграбили и сожгли Гезлев, они приплыли на судах к руинам Сары-Кермена (Херсонеса) и устроили здесь временный лагерь. Затем совершали пешие вылазки к селениям, находившимся вплоть до двадцати километров от лагеря, а после «разорили» и Инкерман81. Возможно, одним из селений, на которое напали казаки был и Чоргунь.
Пострадало село, вероятно, и во время нападения казаков в 1629 г. на Мангуп (ок. 10 мая), где «хан и иные знатные татары тех краев хранят самые драгоценные вещи»82.
Вероятнее всего, именно эти события легли в основу легенды, о том, что Чоргунская башня была «сооружена турецким пашою, при содействии какого-то богача Кара-хады, чтобы предоставить возможность жителям укрываться в ней от Черкезского племени Чавка, делающего набеги со стороны южного берега»83. В данном случае частично подтверждается тезис О.Я. Савели об использовании башни в качестве убежища при нападении казаков, хотя и автор данной работы не согласен с его датировкой сооружения башни в 20-х гг. XVII в.84
Завершая разговор об этнических процессах, происходивших в юго-западной Таврике, и в частности в Чоргуне, можно сделать следующий вывод: возникшее на периферии некогда могучего, но постепенно угасающего Херсона, селение оказалось на территории где в период средневековья происходили сложные этнические процессы. Проживавшие на этих землях «потомки завоевателей, готов и аланов, растворившие в своей среде осколки других этносов, благодаря культурному, идеологическому и политическому влиянию Византии уже стали неотъемлемой частью средневекового греческого христианского мира»85. Еще более процесс этнокультурной интеграции различных групп населения усилился в период существования особого этнополитического организма средневековой Таврики — княжества Феодоро, этнокультурный фон которого был греческим. Но, вероятнее всего, несмотря на полное доминирование греческого языка и православия, еще оставались в княжестве довольно значительные группы не полностью ассимилированного населения. В частности готов, сохранявших еще на бытовом уровне свой язык.
Ситуация изменилась в 1475 г., когда в Таврику вторглись османские завоеватели. В декабре, после полугодовой осады, пала столица княжества, располагавшаяся на горе Мангуп. В это время православное население горной части полуострова окончательно консолидируется под властью завоевателей и постепенно полностью переходит на греческий язык. А память о тех же готах сохранялась теперь только в названии церковной епархии, паства которой, именуемая теперь «греками», была переселена российской императрицей Екатериной II в Приазовье в 1778 г.86
Одной из сложных проблем позднесредневековой истории Чоргуня является определение этнической принадлежности мусульман, которые постепенно стали доминирующей группой его населения, а затем и полностью сменили христианское. В этом отношении большой интерес представляет сообщение В.Х. Кондараки, посетившего село в 70-х гг. XIX в. Он говорил, что местные татары «наружными чертами лица» похожи на турков, а также «они не сохранили никаких преданий, которыми изобилуют татары, при напоминании им ханских времен». Этого же мнения придерживался и местный татарин мулла87.
Во второй половине XVI—XVII вв. происходит постепенное переселение в югозападную Таврику татар с территории Крымского ханства. Еще несколько столетий назад кочевники татары своими набегами приносили этому региону только боль, страдания и разрушения, но теперь для их осевших потомков эта земля постепенно стала родным домом. Все это привело к усилению мусульманской общины селения, которая постепенно стала доминирующей, а затем и вовсе полностью сменила православную (окончательно «угасла» во второй половине XVII в.). В свою очередь изменение этноконфессионального состава жителей повлекло ориентализацию облика как городских88, так и сельских поселений данного региона.
Итак, по состоянию на 1783 г. можно выделить следующие «компоненты», из которых сформировалась мусульманская община Чоргуня:
-
1. Принявшего ислам автохтонного населения. Эта часть была наименьшей, но наиболее «древней».
-
2. Мусульмане-переселенцы из охваченных бунтами и подверженных многолетним неурожаям санджаков Восточной Анатолии89.
-
3. Татар, разного социального положения, которые в результате миграционных процессов постепенно переселялись с территории Крымского ханства в османские владения на полуострове. При этом феодалы и зажиточные татары получали от султана довольно крупные земельные пожалования, а оборона большей части территории эялета была возложена на хана.
Во всяком случае, окончательно пролить свет, на сложные этнические процессы происходившие с населением Чоргуня в позднем средневековье, вероятнее всего, могло бы данные, полученные в результате археологического исследования христианского и мусульманского некрополей соответствующего периода.
Побывавший в 1666 г. в Чоргуне турецкий путешественник Эвлия Челеби ибн Мехмед Зилли Дервиш говорил, что «оно расположено в широкой долине на берегу реки Казаклы-озен (р. Черная — Е . Н .). Деревня с садами, виноградниками, ста пятьюдесятью домами, крытыми черепицей, одной баней и одной соборной мечетью. Между прочим, перед домами жителей Чоргане Мустафы-аги и также Ахмеда-аги, у которых мы гостили, есть большая башня с железными воротами и подъемным мостом. По милости хозяев этих домов все путешествующие находят здесь благодеяния»90. Также он упоминает о четырехпролетном мосте через р. Черную, построенном в 1657/58 г. Сефер Гази-агой (визирь Мухаммеда IV Гирая (1051—1054, 1064—1076 гг. х., 1641—1644, 1654—1666 гг. по Р.Х.) и Ислама III Гирая (1054—1064 гг. х., 1644—1654 гг. по Р.Х.))91.
Однако, несмотря на всю важность данных, приводимых Э. Челеби, не всем им можно однозначно доверять. В особенности это касается численных значений, которые автор, как правило, завышает. Он говорит, что в Чоргуне было 150 домов, но, к сожалению, не сообщает о делении на полноценные и вдовьи семьи, а также холостяков. Если взять наибольший коэффициент 5, то выходит приблизительно 750 чел. Но подобная демографическая обстановка в селении фиксируется только в последнем десятилетии XIX в. — 685 чел. в 1887 г.92, 872 чел. в 1893 г.93 и 948 чел. (из них 259 православных, 682 мусульманина) в 1897 г.94
Говоря о разочтениях в демографических данных, которые предоставляют источники, следует упомянуть письмо председателя городского совета Рагузы венецианскому дожу Пьетро Мочениго, в котором кроме всего прочего говорится, что до захвата турками в 1475 г. Феодоро, его правителю было подвластно 30 тыс. домов (семейств)95. Если учесть что семья в то время состояла в среднем из 5—6 человек, то выходит, что население феодоритской Готии во второй половине XV в. составляло 150—180 тыс. человек. А.Л. Бертье-Делагард доводил эту цифру до 200 тыс. чел.96 Однако, по данным османских дефтеров, к 1520 г. народонаселение Мангупского каза/кадылыка составляло 12460 чел. Если учитывать, что Балаклава (972 чел.)97 и ряд населенных пунктов Южного берега, находившихся на территории генуэзского Капитанства Готии, не входили в состав Феодоро, но относились к Мангупскому каза/кадылыку, выходит, что на территории бывшего княжества проживало около 10 тыс. чел. На фоне таких данных трудно представить, что за менее чем полвека население бывшего княжества сократилось в 15-16 раз.
Интересные данные о селении, содержащиеся в Кадиаскерском Сакке 1097-1111 гг. х., 1686-1710 гг. по Р.Х., приводит А.И. Маркевич. Так, относительно записей касающихся освобождения невольников он пишет: «русский невольник Василий был освобожден в сороковой день после смерти (мудебир) своего хозяина Сейбулла-аги, согласно его завещанию. Кевгер-хан Бике, житель д. Чоргун, освободил русского невольника Бекзата. Али, сын Сейбуллы, дал своему невольнику, русскому, Диляверу, казаку, 33 старых баранов и 5 однолеток на 5 лет с тем, что если он возвратит ему, по прошествию этого срока, 200 баранов, то получит свободу. Асан, сын Кантемира, освободил свою невольницу Ганджа (Анна), русскую, «ради Бога» и слов пророка, что если кто освободит раба, того Бог избавит от ада»98.
Около 9 лет это селение находилось в подчинении Крымского ханства. После заключения 10 (21) июня 1774 г. Кючук-Кайнаджирского мирного договора между
Российской и Османской империями, завершившего русско-турецкую войну 1768—1774 гг., Крымское ханство получило независимость от Османской империи99 и ее владения в югозападном и юго-восточном Крыму100. Мангупский каза/кадылык, вместе с Чоргунем, вошел в состав Бахчисарайского (Бакче-сарайского) каймаканства101. В это же время Чоргунь и многие другие села и города Мангупского, Судакского, Кефинского и Таманского кадылыков были отданы на откуп последним крымским ханом Шагин Гираем (1191—1197 гг. х., 1777—1783 гг. по Р.Х.), управляющему монетным двором Абдул-Гамиду Аге, и «при нем находящимся» Аджи-Мегмеду, Мулла-Омеру и Мулла-Ресулю102;103.
8 (19) апреля 1783 г. императрица Екатерина II издала манифест «О принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны, под Российскую Державу»104. Начинается новый период истории Чоргуня…
К истории села Черноречье в Средние века
To the history of the Chernorechie village in the Middle Ages
Список литературы К истории села Черноречье в средние века
- Шапошников А.К. Древнейшая ономастика Таврического полуострова//Топонимика Крыма. Сборник статей/сост. Ю.А. Беляев. Симферополь, 2011. С. 429
- Могаричев Ю.М., Сазанов А.В., Шапошников А.К. Житие Иоанна Готского в контексте «хазарского периода». Симферополь, 2007. С. 286
- Ахаев А.Н. Имена Крыма (Этимологический словарь топонимов Крыма) //http://turkology.tk/library/561
- Шавшин В.Г. Имя дома твоего. Книга II. Описание географических названий (топонимов) Севастопольского региона. К.-Севастополь, 2012. С. 108
- Бушаков В.А. О происхождении крымскотатарского народа//Проблемы истории Крыма. Тезисы докладов научной конференции (23-28 сентября 1991 г.). Симферополь, 1991. Вып. 1. С. 20
- Бушаков В.А. Лексичний склад iсторичної топонiмiї Криму. К., 2003. С. 134
- Галенко О.I. Топонiмiя Криму справа налiво//Український гуманiтарний огляд. К., 2005. Вип. 11. С. 121-128
- Desimoni С., Belgrano L.T. Atlante idrografico del medio evo posseduto dal prof. T. Luxoro//ASLSP. 1867. Vol. V. P. 255
- Бертье-Делагард А.Л. Исследование некоторых недоуменных вопросов средневековья в Тавриде//ИТУАК. 1920. Т. 57. С. 31
- Паллас П.С. Наблюдения, сделанные во время путешествия по южным наместничествам Русского государства в 1793-1794 годах/пер. с немецкого. М., 1999. С. 56
- Мыц В.Л. Каффа и Феодоро в XV веке. Контакты и конфликты. Симферополь, 2009. С. 163
- Ларина А.Н. Находка альбома Д. М. Струкова «Рисунки древних памятников христианства в Тавриде»//Москва -Крым. Историко-публицистический альманах. М., 2002. Вып. 4. С. 326, 331
- Броневский М. Описание Крыма (Tartariae Descriptio)/пер. И.Г. Шершеневича//ЗООИД. 1867. Т. VI. С. 348
- Маркевич А.И. Краткий очерк деятельности генералиссимуса А. В. Суворова в Крыму (к 6-му мая 1900 года)//ИТУАК. 1901. Т. 31. С. 6
- Тур В.Г. Пещерные монастыри Крыма в XIX -начале XX вв. К., 2006. С. 67
- Лашков Ф.Ф. Статистические сведения о Крыме, сообщенные каймаканами в 1783 году//ЗООИД. 1886. Т. XIV. С. 91-141
- Катунин Ю.А. Монастыри Крыма в XIX-XX веках (по материалам крымских архивов). Симферополь, 2000. С. 13
- Неделькин Е.В. К вопросу о границе княжества Феодоро и владений Генуэзской республики в Юго-Западной Таврике//МАИАСК. 2013. Вып. V. С. 68
- Колли Л.П. Хаджи-Гирей-хан и его политика (по генуэзским источникам)//ИТУАК. 1913. Т. 50. С. 117-118
- Герцен А.Г. Крепостной ансамбль Мангупа//МАИЭТ. 1990. Вып. I. С. 148
- Виноградов А.Ю. Свод греческих надписей Эски-Кермена и его ближайшей округи//Харитонов С.В. Древний город Эски-Кермен. Археология, история, гипотезы. СПб., 2004. С. 128
- Виноградов А.Ю. «Разряд» и «Часть». Как нам обустроить Феодоро?//ССб. 2005. Вып. II. С. 436
- Бадян В.В., Чиперис А.М. Торговля Каффы в XIII-XV вв.//Феодальная Таврика. Материалы по истории и археологии Крыма. К., 1974. С. 185
- Иванов А.В. Градообразование в Юго-Западной и Южной Таврике X-XV вв. Периодизация формирования городских поселений региона // Ρομαιος: сборник статей к 60-летию проф. С.Б. Сорочана // Нартекс. Byzantina Ukrainensis. Харьков, 2013. Т. 2. С. 180
- Герцен А.Г. Рассказ о городе Феодоро. Топографические и археологические реалии в поэме иеромонаха Матфея//АДСВ. 2001. Вып. 32. С. 259
- Герцен А.Г. Описание Мангупа-Феодоро в поэме иеромонаха Матфея//МАИЭТ. 2003. Вып. X. С. 565
- Vasiliev A.A. The Goths in the Crimea. Cambridge, 1936. P. 189
- Байер Х.-Ф. История крымских готов как интерпретация Сказания Матфея о городе Феодоро. Екатеринбург, 2001. С. 287
- Шапошников А.К. Феодоро в письменных источниках//Фадеева Т.М., Шапошников А.К. Княжество Феодоро и его князья. Крымско-готский сборник. Симферополь, 2005. С. 225
- Галенко А. Виноделие в османском Крыму//Виноград и вино России. 2001. № 1. С. 51-56
- Галенко А.И. Виноделие в османском Крыму//Дионис-Вакх-Бахус в культуре народов мира. Симферополь, 2002. Вып. 1. С. 49-70
- Balenko O. Wine production, marketing and consumption in the Ottoman Crimea, 1520-1542//Journal of the Economic and Social History of the Orient. 2004. Vol. 47. № 4. P. 507-547
- Хайбуллаева Ф.Х. Новый турецкий источник по истории Крыма//МАИЭТ. 2001. Вып. VIII. C. 363-365
- Финкель К. История Османской империи. Видение Османа/пер. с англ. К. Алексеева, Ю. Яблокова. М., 2010. С. 104
- Руев В.Л. Османские осады Константинополя 1453 г. и Мангупа 1475 г.: сравнительный анализ//Материалы X Научной конференции «Ломоносовские чтения» 2011 года и X Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2011»/под ред. В.А. Трифонова, В.А. Иванова, В.И. Кузищина и др. Севастополь, 2011. С. 90
- Руев В.Л. Турецкое вторжение в Крым в 1475 г. Симферополь, 2014. С. 186
- Герцен А.Г. Дорос-Феодоро (Мангуп): от ранневизантийской крепости к феодальному городу//АДСВ. 2003. Вып. 34. С. 109-110
- Çelik N. Black Sea and the Balkans under Ottoman Rule//Karadeniz Araçtirmalan. 2010. Cilt 6. Sayi 24. S. 20
- Курникова О.М. Архивные материалы по истории османских владений на территории Крыма (XVI-XVIII вв.)//Восток. 2008. № 3. С. 130
- Iналджик Г. Османська iмперiя. Класична доба 1300-1600/пер. з англiйської О.I. Галенко. К., 1998. С. 117
- Маркевич А. К вопросу о положении христиан в Крыму во время татарского владычества: историческая справка//Таврический церковно-общественный вестник. 1910. № 10. С. 452
- Хёйзинга Й. Осень Средневековья/пер. с. нидерл. Д.В. Сильвестрова, коммент. Д.Э. Харитоновича. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2011. 768 с
- Броневский М. Описание Крыма/пред. и ком. А.Г. Герцена//ИНК. 2005. № 10. С. 175
- Оболенский М. Сказание священника Иакова//ЗООИД. 1848. Т. II. С. 689
- Петровский Н.М. Повесть священника Иакова «О мощах неведомых» по списку А.И. Соколова//ИОАИЭ при Императорском Казанском университете. 1895. Т. XIII. Вып. 2. С. 53
- Белоброва О.А. Повесть известна и удивлению достойна о мощах недоведомаго святого.//ТОДРЛ. 1988. Т. XLI. С. 37
- Beldiceanu-Steinherr I., Berindei M., Veinstein G. La Crimée ottomane et I’institution du «timar»//Annali dell’Istituto Orientale di Napoli. 1979. Vol. 39. P. 549-550
- Галенко О.I. Нiкiта/Сiкiта османського часу//ИНК. 2004. № 8. С. 85
- Галенко О.I. Село Камра за записами османських податкових переписiв першої половини XVI столiття//Черноморские чтения. Материалы I Всеукраинской исторической научно-практической конференции, посвященной 100-летию со дня рождения С.А. Секиринского и О.И. Домбровского (г. Симферополь, 14-15 марта 2014 г.). Симферополь, 2014. С. 13
- Berindei M., Veinstein G. La présence ottomane au sud de la Crimée et en mer d'Azov dans la première moitié du XVIe siècle//CMRS. 1979. Vol. 20. № 3-4. P. 428
- Айбабин А.И. Этническая история ранневизантийского Крыма. Симферополь, 1999. С. 229
- Айбабин А.И., Герцен А.Г., Храпунов И.Н. Основные проблемы этнической истории Крыма//МАИЭТ. 1993. Вып. III. С. 216
- Гайворонский А.Е. К вопросу о христианских подразделениях в армии Крымского ханства//БИАС. 2001. Вып. 2. С. 442
- Ефимов А.В. Джизйе-дефтер лива-и Кефе 1634 года как источник по истории Крыма//Греки Балаклавы и Севастополя. М., 2013. С. 28
- Ефимов А.В. Христианское население Крыма в 1630-е годы по османским источникам//Вестник РГГУ: Исторические науки. Региональная история. Краеведение. 2013. № 9 (110). С. 141
- Ефимов А.В. Из османской налоговой ведомости. XVII век//Греки в истории Крыма. Краткий биографический справочник/под ред. В.В. Харабуга. Симферополь, 2000. С. 283-290
- Хартахай Ф.А. Историческая судьба крымских татар (статья вторая)//Вестник Европы. 1867. Т. II. Июнь. С. 143
- Новосельский А.А. Борьба Московского государства с татарами в первой половине XVII века. М.-Л., 1948. С. 136
- Кондараки В.Х. Универсальное описание Крыма. Николаев, 1873. Ч. I. С. 116
- Савеля О.Я. Чоргунская башня -памятник истории казачества в Крыму?//350-летие Азовского осадного сидения. Тезисы докладов конференции. Азов, 1991. С. 42
- Герцен А.Г. Между вторым и третьим Римом//Московский журнал. История государства Российского. 1998. № 11. С. 45
- Колтухов С.Г., Юрочкин В.Ю. От Скифии к Готии. Симферополь, 2004. С. 201
- Иванов А. В. Мусульманские культовые постройки османского времени в Инкермане и Балаклаве//Великая схизма. Религии мира до и после разделения церквей. Тезисы докладов и сообщений XVI Международной конференции по истории религии и религиоведению (Севастополь, 26-31.05.2014). Севастополь, 2014. С. 17
- Колли Л.П. Исторические документы о падении Каффы//ИТУАК. 1911. Т. 45. С. 17
- Курникова О.М. Документальные источники по истории османских владений на территории Крыма в XVI-XVIII вв.: дисс.... канд. ист. наук: 07.00.09. М., 2009. С. 110, 237, 238
- Маркевич А. К вопросу о положении христиан в Крыму во время татарского владычества: историческая справка//Таврический церковно-общественный вестник. 1910. № 11. С. 531
- Юзефович Т.П. Договоры России с Востоком. Политические и торговые. СПб., 1869. С. 26-27
- Смирнов В.Д. Крымское ханство под верховенством Оттоманской порты в XVIII в. до присоединения его к России. Одесса, 1898. С.148
- Дружинина Е.И. Кючук-Кайнарджийский мир 1774 года (его подготовка и заключение). М., 1955. С. 279-280
- Лашков Ф.Ф. Камеральное описание Крыма 1784 г. (Продолжение)//ИТУАК. 1888. Т. 6. С. 43
- ашков Ф.Ф. Сборник документов по истории Крымскотатарского землевладения (Введение)//ИТУАК. 1895. Т. 22. С. 108-110