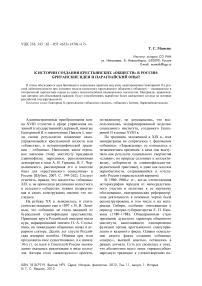К истории создания крестьянских «обществ» в России: британские идеи и парагвайский опыт
Автор: Мамсик Тамара Семеновна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 1 т.11, 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье обсуждаются идеи британцев и социальные практики иезуитов, адаптированные Екатериной II к русской действительности при создании модели волостного крестьянского общества («общины») - оказавшегося в исторической перспективе одним из самых жизнеспособных национальных институтов. Материалы, привлеченные автором для обоснования выводов, будут способствовать выработке более адекватного взгляда на историю российской государственности.
Екатерина ii, крестьянское "общество" (волость, "община"), бентам, парагвайская миссия
Короткий адрес: https://sciup.org/14737641
IDR: 14737641 | УДК: 316.
Текст научной статьи К истории создания крестьянских «обществ» в России: британские идеи и парагвайский опыт
Административные преобразования конца XVIII столетия в сфере управления казенной (государственной) деревней, начатые Екатериной II и законченные Павлом I, имели своим результатом появление самоуправляющейся крестьянской волости или «общества», в историографической традиции – «общины». Напомним, какое огромное значение этому институту придавали славянофилы, народники, революционная демократия в лице А. И. Герцена, Н. Г. Чернышевского, рассматривая его в качестве базы для «крестьянского социализма» в России [Шубин, 2007. С. 199–262]. Следует отметить, правда, что апологеты «общины» XIX в. не проводили различения волостного и сельского «обществ», неявно подразумевая в своих конструкциях именно это последнее.
На рубеже ХХ в. выяснилось, и статистически показано еще в 1897 г. В. И. Лениным, что «община» не стала панацеей от буржуазной стратификации крестьянства. Правящие круги Российской империи взяли курс, маркированный именем П. А. Столыпина, на ликвидацию общинных начал в аграрном секторе. Десять лет спустя Российская империя погибла. Община при этом продолжила свое существование, а к началу 30-х гг. ее идея в Советской России неожиданно оказалась реализована в виде колхозов. Авторы этого «новаторского» проекта, по-видимому, не догадывались, что воспользовались модифицированной моделью социального института, созданного Екатериной II в конце XVIII в.
По традиции, заложенной в XIX в., имя императрицы не сопрягалось с феноменом «общины». «Зарождение» ее относилось к незапамятным временам, а сама она выступала как результат социального творчества «славян», по природе склонных к коллективизму, соборности (в славянофильско-народнической трактовке), и даже как осколок первобытности, сохранившийся в «отсталой» России (марксистский вариант).
В 1960–1980-е гг., когда отечественная историография перешла от непосредственного участия в политике к ее научному обоснованию, екатерининская реформаторская деятельность в основных чертах была реконструирована, в том числе и на материалах Сибири, особенно относящимся к периоду генерал-губернаторства Е. П. Каш-кина (1780–1788). Общепринятым стало признание дуального характера общинного института, выполнявшего одновременно функции органа крестьянского самоуправления и казенного фиска. Однако осмысление самого факта создания «общины» «сверху», высшей властью, оставалось в рамках догмата. Суть его сводилась к тому, что абсолютизм всего лишь «приспособил» народную традицию к удовлетворению по-
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2012. Том 11, выпуск 1: История © Т. С. Мамсик, 2012
требностей «феодального» государства, подчиненного исключительно воле дворян-крепостников [Крестьянство Сибири…, 1982. С. 286–303] 1.
Ныне понятие «абсолютизм» (и не только в России [Хеншелл, 2003. С. 240]) признано фикцией – фасадом, прикрывающим ожесточенные бои в среде «господствующего» класса за влияние на правителей, а то и за их смену; дирижеры этих схваток зачастую находились за пределами страны. Придя к власти с помощью англоманов (в лице Воронцовых–Паниных), Екатерина с начала 70-х гг., опираясь на «русскую партию», возглавленную Г. А. Потемкиным, неявным образом дистанцируясь от своих «патронов», начала проводить политику в рамках Национального проекта [Мамсик, 2004. С. 15–26].
Одна из его первоочередных задач заключалась в подготовке условий для изживания крепостничества, в том числе за счет численного увеличения свободного (государственного) крестьянства и укрепления его сословных прав. Эта часть населения, основной источник комплектования (и содержания) армии, мыслилась в перспективе более надежной социальной базой государственности, нежели дворянство. По этой причине «крестьянский вопрос» императрица решала неявным образом («прикровен-но»).
Результат разработки данного фрагмента Национального проекта мыслился в виде «Жалованной грамоты крестьянству». Она появилась, но отнюдь не в форме единовременного акта (как то было с двумя «грамотами» для дворян и горожан; 1785 г.), а в виде разновременных указов о создании волостных обществ, причем вначале в отдельных наместничествах (в виде опыта) и с рассылкой (1782 г. [Крестьянство Сибири…, 1982. С. 329]) особых «Наставлений» (советов) казенным крестьянам от лица наместника, – доверенного лица императрицы. Одна из писарских копий этого документа сохранилась в Новосибирском областном архиве 2.
В «Наставлении» вновь созданному крестьянскому обществу Тырышкинской волости в виде «советов» подробно разъяснялось, каким образом следует перейти к новому порядку на началах самоуправления.
В основу «Наставления» были положены «Учреждение для управления губерний», «Устав благочиния» и другие акты. Однако, судя по тому, что Екатерина и ее наместник по большей части общались посредством личной переписки, а также устных докладов и распоряжений [Кашкин, 1913. С. 349–415], названный документ был итогом их совместной работы, к которой, возможно, был привлечен С. Н. Янов, юрист, окончивший Лейпцигский университет, друг А. Н. Радищева [Мамсик, 2002]. К сказанному добавим, что документация, касающаяся дат и обстоятельств формирования волостей в Сибири, по каким-то причинам отсутствует. Вследствие этого о замыслах законодателя и о сути реформы возможно судить лишь по «Наставлению», а также по ее результатам, разумеется, избавившись от упоминавшихся выше предвзятых установок.
Особо следует акцентировать внимание на том, что адекватная оценка сибирского эксперимента возможна лишь с учетом типа существовавших ранее «общин». Во-первых, они представляли собой формальные территориально-соседские объединения, в состав которых могли входить представители разных сословных групп: служилые люди, разночинцы, посадские, мещане, крестьяне (разделенные на пашенных и оброчных), ямщики, новокрещены и т. д. (всего «малых сословий» в Сибири XVII–XVIII вв. насчитывалось несколько десятков). Каждая группа подлежала ведению глав своих сословных корпораций, подчинявшихся приказчикам и комиссарам, назначаемым воеводами. Приказчики использовали такие сообщества, как вспомогательный инструмент управления и сбора налогов. Во-вторых, общими земельными правами на территорию проживания ни сословные, ни соседские сообщества не обладали. Документы на заимки хозяева получали в индивидуальном порядке от воевод вплоть до 60-х гг. XVIII в. По существу, в Сибири складывалась юридически оформленная частная собственность на землю.
Созданное волостное крестьянское общество обрело статус юридического коллективного субъекта права на землю, находя- щуюся во владении и пользовании всех своих членов в совокупности. Все члены волости получали одинаковый сословный статус казенного крестьянина и уже в соответствии с этим статусом – безусловное право на доступ к волостному земельному фонду в размере не менее 15 десятин на душу муж. пола. Определение условий этого доступа и гарантии его являлись главными функциями волостного общества и выборных органов его управления. Была введена дифференцированная система обложения семейств налогами, учитывающая четыре степени имущественного состояния. Раскладкой налогов занимались выборные «окладчики» («добросовестные»).
Волостные суды, органы самоуправления избирались на сходах из «лучших людей»: старосты, два выборных и нанимаемый (для делопроизводства) писарь; в помощь волостным начальникам предназначались сельские выборные – сотские и десятские. В административном отношении Волостные суды подчинялись Земским судам (на Алтае – по делам заводских работ – ведомственным управителям), но чиновникам было запрещено вмешиваться во внутренние дела обществ, кроме уголовных.
В результате реформы развитие Сибири (и других окраин, свободных от крепостничества) было направлено по принципиально иному пути, чем прежде. В отличие от Европы и Соединенных Штатов, где характер экономических процессов определял частнособственнический принцип, на окраинах России был реализован тип социальных отношений, прообразующих элементы модели «государственно-общинного социализма». Гарантировав право на землю, государство обрело в лице крестьян мощную социальную поддержку. «Монархическая идеология» крестьян, которую длительное время исследователи полагали плодом политических и социальных иллюзий, на самом деле имела под собой объективные основания.
Создание волостей в Сибири ускорило переход к полной земледельческой оседлости крестьянского населения, до той поры склонного к систематическим передвижкам (ввиду господства переложной системы полеводства и конкуренции за «свободные» земли). Адаптируясь к суровым климатическим условиям, сибиряки создали комплексный тип хозяйства, органично сочетая земледелие, развитое (в отличие от цен- тральных районов страны) животноводство и промысловую деятельность всех видов. В результате Сибирь не знала голодовок, старожилы исправно платили налоги и «кормили» возраставший поток ссыльных.
В результате полученного самоуправления, т. е. права выбора и смены (каждые три года) волостных начальников, возможности решать наиболее важные для общества вопросы на мирских сходах, самостоятельно искать выход из самых различных жизненных ситуаций, в том числе и в сфере наказаний за антиобщественные поступки, созданный государством институт приобрел черты школы «народной демократии» и «школы гражданственности».
Реформа, таким образом, заложила основы для формирования в регионе единого социокультурного пространства, важнейшей предпосылки для реализации Национального проекта. К середине XIX в. в Сибири маргинальное в этнокультурном отношении население трансформировалось в реальную общность (субэтнос), структурную часть русского этноса, – старожилов, которые осознавали себя «настоящими сибирскими рускими» [Курилов, 2005. С. 25].
В свое время поиски источников, на базе которых сформировалась программа волостной реформы, вывели нас от общеизвестных идей французского просветительства к германской социологической мысли XVIII в. [Мамсик, 2002. С. 81–86].
Дальнейшие поиски дают основания поставить сибирский эксперимент в контекст идейных исканий английской социальнополитической мысли, а также опыта по созданию теократического общества на принципах раннехристианского коммунизма под эгидой Ордена иезуитов в Южной Америке.
Мировая история в период царствования Екатерины II предстает как завершающая фаза давнего конфликта двух конфессиональных систем: католицизма и протестантизма с центрами в Риме и Лондоне. Изучение российской истории в этом контексте не поощрялось ни в XIХ, ни в ХХ в., поэтому исследователю ныне приходится строить рабочие гипотезы, опираясь на косвенные данные и логику здравого смысла: документы в ходе политических баталий уничтожались, фальсифицировались, а если и отлагались, то в закрытых (до сих пор) архивах.
Российская государственность со времени Петра I опиралась на поддержку стран протестантского блока во главе с Британией до начала XIX столетия, когда этот союз «раскололся» на фоне общих изменений мирового политического поля. Уже вскоре после воцарения Екатерины II в Британии наряду с «дружественной» партией сформировался антирусский блок, находивший поддержку у части российской элиты, недовольной новой монархиней 3.
За период продуктивного сотрудничества обе страны интенсивно обменивались дипломатами, путешественниками, учениками (с русской стороны) и профессионалами (с английской). В течение XVIII в. в Англии побывало до 500 русских [Кросс, 1996. С. 348–362]. В распоряжении российской элиты оказался значительный корпус материалов, относящихся к опыту и методам создания в Британии прочной государственности на национальной основе.
Действенную помощь при этом оказывали британцы, приглашаемые в Россию на службу. К числу таковых относился военный инженер-кораблестроитель Самюэль Бентам (Samuel Bentham ) . Потемкин нашел в нем энергичного помощника и советчика в решении военных и административных задач, вставших перед ним в связи с присоединением и освоением территорий на юге Российской империи – от Забайкалья на востоке до Новороссии на западе [Ситников, Кристи, 2000].
Екатерина при разработке сословного законодательства особое внимание уделяла передовой юридической школе британцев, вдумчиво адаптируя их идеи к русской действительности. Нет никаких сомнений, что в этой связи в Россию был приглашен старший брат Самюэля, Иеремия (Джереми; Jeremy Bentham). Мировая слава его как мыслителя, юриста, экономиста, основателя философской школы утилитаризма, была еще впереди, но в Европе его уже знали. В отличие от А. Смита, который верил, что следование частным эгоистическим интересам само способно обеспечить общественное благо, Бентам считал, что гармония интересов индивидов возможна лишь как результат разумного законодательства. Присутствие его идей ощущается в социологической и философской мысли в России до начала ХХ в. [Айзенштат, 2004]. Начальный же, самый значимый (в практическом плане), период непосредственных контактов с «утилитаристом», до сих пор остается в тени.
Изучение биографии и научного наследия Бентама в России началось только в конце XIХ в. Символично, что монументальный труд о Бентаме вышел буквально накануне 1917 г. [Левенсон, 1893; Покровский, 1916; Пыпин, 1917]. В постреволюционный период интерес к работам британца блокировался оценкой К. Маркса, назвавшим его «гением буржуазной глупости» [Маркс, Энгельс, 1960. С. 624]. В публикациях последнего времени (включая и учебные пособия) интересующий нас вопрос не ставится.
Согласно официальной версии, Иеремия «гостил» два года (1785–1787) у брата в селении близ Кричева, имении Потемкина; жил там анахоретом 4 и даже избежал встречи с императрицей при путешествии ее на Юг. Выглядит это сообщение неправдоподобно. По сведениям Э. Г. Кросса, Иеремия интересовался реформаторской деятельностью Екатерины, переводил на английский язык «Наказ» Уложенной комиссии, собирал разного рода практические и литературные сведения на родине по заданию Потемкина, а тот, организуя переводы их, доставлял какому-то заинтересованному лицу [Кросс, 1996. С. 45–46]. Эта таинственность, возможно, вынуждалась следующими обстоятельствами.
Деятельность правоведа И. Бентам начал с критики своего учителя У. Блекстона (William Blackstone), издав анонимно в 1777 г. «Отрывок о правительстве», в котором содержался призыв сбросить «тираническое иго» юристов старой школы. Известно, что Екатерина тщательно штудировала Блек-стона [Павлова-Сильванская, 1964. С. 487– 488] и не могла обойти вниманием его анонимного критика. Имя его было ей, конечно, сообщено до того, как стало известно английской публике.
Интерес к России свел Бентамов с посланцами на берега Темзы (свящ. Самбор-ским, бр. Татищевыми и др.), связанными лично с Потемкиным и императрицей. К 1780 г. Бентам успел написать «Введение в основания нравственности и законодательства», труд, который правоведы и социологи полагают основным его вкладом в развитие юридической мысли [Бентам, 1998]; к 1782 г. из-под его пера вышла работа «О законах вообще», в которой он продолжил развитие изложенных ранее идей о роли закона и законодателя в деле согласования интересов национального сообщества на принципах общей пользы.
Существовали и политические причины к сокрытию консультаций с британским социологом. К моменту поездки Иеремии к брату дружеские отношения России и Англии осложнились инициированным Екатериной же «вооруженным» нейтралитетом (1780). Кроме того, как уже отмечено, императрица готовила и проводила подлинные преобразования ненавязчиво, стараясь не возбуждать «общественного мнения», как внутри страны, так и в Европе.
Вызывает размышления и еще один факт. В Россию Бентам попал не кратким путем (через Петербург), а после полугодового путешествия через Ниццу, Константинополь и Балканские турецкие провинции, информация о настроениях в которых интересовала Потемкина в связи с надвигавшейся очередной русско-турецкой войной. Английский путешествующий юрист мог стать негласным советником правителей России не только в делах социальных реформ.
Очевидно, что общение (даже путем переписки) на почве обоюдных интересов было полезно обеим сторонам. Высказывая много позднее в письме к Александру I намерение продолжить начатые в конце XVIII в. законодательные эксперименты, Бентам писал: «Два года из тех лет моей жизни, которые были наиболее богаты наблюдениями, были проведены в пределах России» [Пыпин, 1917. С. 58]. Это признание заставляет усомниться в его отшельническом образе жизни под Кричевом. Заметим, что осуществить свое желание при Александре ему не удалось. Но после прихода к власти Николая I Бентам участвовал в работе М. М. Сперанского над Полным собранием законов Российской империи, созданным по аналогии с английским прецедентным правопорядком.
Полагаем, что основной принцип, который Бентам обосновывал в своих юридических трудах – достижение посредством разумного законодательства «наибольшего счастья (пользы) для наибольшего числа людей» [Бентам, 1998. С. 14, 23–26] – взят был Екатериной на вооружение при разработке модели самоуправляющегося крестьянского общества.
Замышляя и реализуя социальные реформы, Екатерина II опиралась не только на идеи и теории европейских социологов и просветителей. Она могла осмыслить также и результаты практических «наработок» отцов-иезуитов в ходе социально-культурного эксперимента в Парагвае.
Южно-американский комплекс колоний сложился в ходе завоеваний Испании и Португалии и патронировался Римской курией. В одном из отдаленных от основных колониальных центров регионе, расположенном между испанским Вице-королевством Ла-Плата и португальской Бразилией, иезуитским миссионерам с помощью Рима и Мадрида удалось к середине XVII столетия, преодолев яростное сопротивление местных колониальных властей, создать самостоятельное теократическое государственное образование. «Гражданами» его стали индейцы племени гуарани, ведшие до прихода европейцев образ жизни собирателей и охотников (с элементами каннибализма).
Патеры осуществили свой проект, не прибегая к физическому насилию, а используя исключительно «оружие духовное» (религиозные проповеди) и гарантируя свободу от белых поработителей, жестоко эксплуатировавших племена аборигенов. Гарантом свободы выступали, в частности, вооруженные подразделения самих индейцев, обученных европейцами военному искусству.
Результаты этого эксперимента, именуемого «коммунистическим», были опубликованы в Париже в 1757 г., а затем переведены на немецкий язык в виде трех томов сочинения Ксавье Шарлевуа «История Парагвая»; с приложением отчета о. Антония Сепи о посещении им Парагвая в 1691 г. [Святловский, 1924. С. 18, 23–24]. Воплощенный в жизнь иезуитами проект платоновской, моровской и прочих утопий или, что более вероятно, – идей раннехристиан- ской церкви (с общностью труда и имущества, равенством распределения и властью духовного авторитета) привлек внимание европейских просветителей (и протестантов, и католиков).
Нет никакого сомнения, что в числе читателей «Истории Парагвая» оказалась и будущая императрица России. Вольтер полагал парагвайский опыт «триумфом человечности»; аббат Рейналь именовал Парагвай «земным раем» [Святловский, 1924. С. 15]; Екатерина называла себя «ученицей Вольтера», а автора сочинения «История обеих Индий» приютила в России после его эмиграции из Франции [Мамсик, 2002. С. 81]. Не исключено также, что «странный» изгиб российской политики с опекой иезуитов 5 со стороны российской монархини (начиная с 1774 г.), в пику декрету 1773 г. папы Климента IV об упразднении Ордена 6, был отчасти следствием положительного резонанса, возникшего при знакомстве Екатерины с деятельностью Парагвайской миссии.
В свете нашего обзора возможных путей влияния передовых европейских идей на формирование программы Национального проекта, нацеленного на длительный процесс гармонизации этнически разнородного и сословно структурированного российского общества, особый интерес представляет выбор методов по созданию самоуправляющихся крестьянских обществ. Было бы нелепо проводить прямые параллели между русской волостью и редукцией парагвайских «коммунистов». Российские реформаторы отдавали отчет в гораздо более высоком уровне развития «русского» колониста не только в сравнении с индейцем, но и с местным сибирским аборигеном. Проведенное в преддверии волостной реформы обследование сибирской деревни привело их к выводу о необходимости отделять казенных крестьян от «ясашных» вследствие «разности образа жизни, промыслов и душевных сил» [Мамсик, 2002. С. 85].
Эксперимент иезуитов на социальном материале, казалось бы, менее «продуктивном» в смысле ожидаемых результатов, тем не менее подтверждал бентамовский принцип: не ждать спонтанного проявления «скрытого духа», а создавать условия и направлять его интенции в видах «общей пользы». Пример иезуитов, несомненно, вдохновлял и призывал к деятельности.
В то же время Екатерина не могла использовать парагвайский опыт напрямую, в частности, и потому, что священники православной церкви не могли в ее время выполнять воспитательную и организационную функции подобно патерам-католикам. Секуляризацией духовных вотчин и выстраиванием системы учреждений духовного образования императрица только создавала предпосылки для выращивания «новой породы людей» в среде российского духовного сословия, способного выполнять свой общественный долг.
В условиях российской действительности использовать «духовное оружие» приходилось светской власти. С этой точки зрения примечательно, что в «Наставлении» в перечне возможных мер, за разного рода антиобщественные проступки отсутствуют телесные наказания; но зато дается совет, применяя «увещевания», взывать к «совести» виновного. Полагая метод убеждения крайне важным, авторы «Наставления» советуют каждый «досужный час» для крестьян использовать для чтения текстов из этого документа с тем, чтобы у слушателей их содержание оставалось в памяти.
В отличие от петровской эпохи, когда благо государства выступало в качестве условия блага всей совокупности подданных, «Наставление» крестьянским обществам провозглашало принцип труда и общественной деятельности как условие, благодаря которому достигается «общий и частный, собственный, покой и блаженство». В этой формуле слышится перифраз бентамовской идеи о гармонии интересов. Очевидно, что она и была реализована в форме придания русской «общине», на первый взгляд, разнонаправленных функций (дуализма), а на самом деле позволявших, с точки зрения законодателя (по мере возможности), взаимно учитывать и согласовывать интересы государства и крестьянства – с одной стороны, и отдельного крестьянина и волостного общества в целом – с другой.
В заключение следует сказать, что волость, равно как и позднее «сельское общество», т. е. «община» – отнюдь не стала барьером на пути к капитализму (прежде всего, «язвы пролетариатства»), но она в определенной степени смягчила этот переход. Следует ли считать реализованные на протяжении 50–100 лет проекты утопиями – вопрос спорный. Однако даже в случае положительного ответа на него необходимо признать, что екатерининские нововведения, несмотря на то, что имя ее было забыто, оставили в сознании массы глубокий след. Дальнейшее развитие событий показало, что в комплексе причин революционных взрывов начала ХХ в. разрушение крестьянских обществ занимало не последнее место. Поэтому и возрождение их в виде модифицированной утопии – колхозов не было случайностью. Колхоз соединил в себе идею общинности (коллегиальности и выборности) с практикой коллективного труда и распредения. Невозможно отделаться от мысли, что большевики, замышляя и проводя коллективизацию, имели в виду наряду со всем прочим и давний опыт Парагвайских миссий. Иначе сложно объяснить факты известности и обсуждаемости этого опыта в советской печати.
FOR THE HISTORY OF THE PEASANT «SOCIETIES» IN RUSSIA: BRITISH IDEAS AND EXPERIENCE OF THE PARAGUAYAN