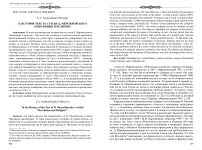К истории текста статьи Д. Мережковского "Революция и религия"
Автор: Андрущенко Елена Анатольевна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 3 (54), 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется история текста статьи Д. Мережковского «Революция и религия». Она могла бы оставаться текстологической проблемой, представляющей интерес для узкого круга специалистов, работающих над подготовкой текстов к публикации, если бы не выводы, которые можно сделать на основе ее изучения. История текста статьи свидетельствует о движении идей Д. Мережковского и уточняет представления об эволюции его взглядов. В работе над редакциями статьи - первой журнальной (1907), второй, вошедшей в сборник «Не мир, но меч. К будущей критике христианства» (1908), воспроизведенной без изменения текста в обоих Полных собраниях сочинений писателя, и «французской», опубликованной в сборнике «Le Tzar et la Révolution» (1907), - очевидно стремление писателя ввести в текст несколько принципиальных дополнений. В ходе анализа устанавливается последовательность редакций статьи и осмысляется характер переработки текста. Начав с популяризации легенды о Пресвитере Иоанне и мысли о плодотворном единстве православия и самодержавия в книге «Л. Толстой и Достоевский», Д. Мережковский подошел к отрицанию положительного смысла самодержавия. К статье «Революция и религия» стягиваются темы, затронутые в исследованиях начала 1900-х гг., в ней разрабатывается проблематика произведений, написанных между двумя русскими революциями. Идея религиозной революции, намеченная в статье «Революция и религия» и выраженная через документы декабризма, получила полноценное развитие в произведениях писателя 1910-х гг.
Мережковский, история текста, редакции статьи, источники, восстание декабристов, христианское государство, православный царь
Короткий адрес: https://sciup.org/149127260
IDR: 149127260 | DOI: 10.24411/2072-9316-2020-00070
Текст научной статьи К истории текста статьи Д. Мережковского "Революция и религия"
Статья Д. Мережковского «Революция и религия» впервые опубликована в журнале «Русская мысль» в 1907 г. [Мережковский 1907, 2, 64-85; 3, 17-34]. Через год она была включена в сборник его статей «Не мир, но меч. К будущей критике христианства» (1908) [Мережковский 1908, 41-117], а позднее без изменений текста в составе этого сборника вошла в оба Полных собрания сочинений писателя. В примечании к первой публикации Д. Мережковский писал, что «некоторые места в заключительной части этой статьи не могли в настоящее время появиться в России, по условиям русской так называемой “свободы печати”. Эти места, очень важные для основной мысли автора, будут восстановлены в сборнике статей на французском языке, под заглавием Le Tzar et la Revolution, который появится осенью текущего года в Париже» [Мережковский 1907, 3, 34].
В предисловии к первому русскому изданию этого сборника М. Павлова подвергает сомнению правомерность отсылок к цензурным затруднениям: «...с подобным мнением едва ли можно согласиться безоговорочно. Прежде всего потому, что предисловие к изданию и основополагающая в “Le Tzar et la Revolution” статья “Религия и революция” были без каких-то конъюнктурных изменений включены в сборник Мережковского “Не мир, но меч”, изданный в 1908 г. М.В. Пирожковым» [Павлова 1999, 7-8]. Это не совсем так. Текст статьи «Революция и религия» в сборнике «Не мир, но меч» отличается от текста первой публикации и названием (перестановкой слов), и объемом. Изменения текста проведены в двух направлениях. Д. Мережковский расширял его за счет важных для проблематики моментов (вторая редакция), а при подготовке статьи для сборника “Le Tzar et la Revolution” адаптировал для французского читателя, пояснил некоторые русские имена и реалии, уточнил отдельные оценки («французская»

редакция). Судя по тому, что вставки во «французской» редакции иногда находятся внутри текста, отсутствующего в первой редакции статьи, они вносились именно во вторую редакцию.
История текста статьи «Революция и религия», на наш взгляд, требует специального изучения. Она могла бы оставаться лишь текстологической проблемой, если бы не выводы, которые можно сделать на основе ее изучения. История этого текста свидетельствует о движении идей Д. Мережковского, к нему стягиваются темы, затронутые писателем в статьях начала 1900-х гг, и в нем разрабатывается проблематика произведений, написанных между двумя революциями.
Публикуя статью в журнале «Русская мысль», писатель включался в полемику о смысле первой русской революции. Контекст его публикаций тех лет [Холиков 2013, 79-87] свидетельствует о постановке нескольких общественно важных проблем. В 1906 г. он напечатал статью «Пророк русской революции (К юбилею Достоевского)» и нашумевшую статью «Грядущий Хам», статьи «Чехов и Горький» и «Страшный суд над русской интеллигенцией». Интенсивность публикаций, совпадение интенций и некоторых источников статей свидетельствуют о напряженности исканий писателя: они подробно рассмотрены в статье М. Павловой [Павлова 1999, 7-54].
О том, что у Д. Мережковского оставался материал, не вошедший в журнальную редакцию статьи, говорит один из источников. В III главке второй редакции автор цитирует фрагмент из «Православного катехизиса» С. Муравьева-Апостола: он позднее упоминается в брошюре «Первенцы свободы. История восстания 14-го декабря 1825 г.» (1917), в статье «Ангел революции» (1917) и в романе «14 декабря» (1918). Во второй редакции статьи цитата из «Катехизиса» приводится в таком варианте:
«Вопрос. Не сам ли Бог учредил самодержавие?
Ответ. Бог в области своей никогда не учреждал зла. Злая власть не может быть от Бога.
Вопрос. Какое правление сходно с законом Божиим?
Ответ. Такое, где нет царей. Бог создал нас всех равными.
Вопрос. Стало быть, Бог не любит царей?
Ответ. Нет. Они прокляты суть от Бога, яко притеснители народа, а Бог есть Человеколюбец. Да прочтет каждый, желающий знать суд Божий о царях, Книгу Царств, главу восьмую: Возопиете в то время из-за царя вашего, которого выбрали вы себе, но не услышит вас Господь. - Итак, избрание царей противно воле Божией.
Вопрос. Что же святой закон наш повелевает делать русскому народу и воинству?
Ответ. Раскаяться в долгом раболепствии и, ополчась против тиранства и нечестия, поклясться, да будет всем един Царь на небеси и на земли - Иисус Христос» [Мережковский 1908, 58].
В годы работы Д. Мережковского над статьей этот текст в разных вариантах воспроизводился в издании Т. Шимана «Убиение Павла I и восшествие на престол Николая I» [Шиман 1902, 409-412], в сборнике «Из писем и показаний декабристов (Критика современного состояния России и планы будущего устройства)» [Из писем и показаний... 1906, 86-87], в статье И. Щеголева «Катехизис Сергея Муравьева-Апостола. К истории агитационной литературы декабристов» [Щеголев 1908, 55]. Сличение цитаты во второй редакции статьи с этими публикациями свидетельствует о том, что писатель свел воедино разные пункты; первого вопроса и ответа нет ни в одном из вариантов документа. Во всех редакциях цитате из «Православного катехизиса» предшествует фрагмент, содержащий характерное высказывание К. Рылеева: «Такими сочинениями удобнее всего действовать на умы народа» [Мережковский 1907,2, 72]. Оно приводится в издании «Из писем и показаний декабристов...» [Из писем и показаний... 1906, 161-196], так что, возможно, и текст «Катехизиса» Д. Мережковский выписал из него.
С ним связан и финал III главки статьи, ощутимо расширенной по сравнению с первой публикацией. Во второй редакции ее завершает такой абзац:
«Приходило ли, однако, в голову составителям “Православного Катехизиса”, что он столь же не православный, как и не самодержавный? Русские святители не могли бы, конечно, не согласиться с мнением русского царя “Quelle infamie! -Какая гнусность!” И согласились, действительно. После усмирения Декабрьского бунта, Св. Синоду поручено было составить благодарственный молебен “на испро-вержение крамолы”. Молебен составили и служили торжественно перед народом в Петербурге, на Исаакиевской площади, в Москве и других городах России. В последней ектении возглашалось: “Еще молимся о еже приятии Господу Спасителю нашему исповедания и благодарения нас, недостойных рабов Своих, яко от неистовствующие крамолы, злоумышлявшие на испровержение веры православные и престола и на разорение Царства Российского, явил есть нам заступление и спасение Свое”. Так царство Божие русский царь объявил “гнусностью”, а русская церковь - “крамолою”» [Мережковский 1908, 60-61].
В этот фрагмент включены цитаты из материалов, с которыми Д. Мережковский, по-видимому знакомился в рукописях: они и сегодня хранятся в архиве [По доношению Серафима... 1826, 8-об.]. В том же контексте они вошли в его роман «14 декабря».
Переработке также подверглись главки, посвященные П. Чаадаеву и Вл. Соловьеву: о каждом из них Д. Мережковский позднее опубликовал отдельные статьи («Чаадаев. 1794-1856», 1915; «Немой пророк (О Вл. Соловьеве)», 1909, «В.С. Соловьев», 1915). Очевидно, что изменения текста были вызваны потребностью уточнить сказанное в первой редакции статьи. Так, в начале IV главки в первой редакции Д. Мережковский писал о П. Чаадаеве: «Если бы он прочел “Православный Катехизис” бра-
тьев Муравьевых, то, конечно, понял бы, что “Катехизис” этот столь же не православен, как не самодержавен» [Мережковский 1907, 2, 74]. Во второй редакции этот абзац завершается таким фрагментом:
«Именно он, Чаадаев, первый, понял, что самодержавие, вера в русское царство и православие, вера в русского Бога, - два исторические явления одной и той же метафизической сущности, так что отрицающий одно из них не может не отрицать и другое. Он первый из образованных русских людей не только усомнился в простодушной народной истине: “на что лучше русского Бога?” - не только искал, но и нашел “другого Бога”, другое царство» [Мережковский 1908, 62].
Он созвучен поздней статье о П. Чаадаеве; сохранилось в ней и соотнесение философа с литературными мифологемами Д. Мережковского: с пушкинским Бедным Рыцарем и с Чацким.
В VIII главке первой редакции Д. Мережковский писал о Вл. Соловьеве: «...когда мечтает он о воссоединении Церквей, православной и католической, то соблазняется соединением православного самодержавия, символа царства вселенского, с римским папством, символом священства вселенского, как будто можно две мертвые личины, папу и кесаря, соединить в один лик живого Христа, единого Царя и Священника» [Мережковский 1907, 2, 84] и во второй редакции уточнял: «две лжи в одну истину» [Мережковский 1908, 80]. Следующий абзац начинается с совпадающего во всех редакциях предложения: «Вл. Соловьев не понял или недостаточно понял всю неразрешимость антиномии между государством и Церковью», которое во второй редакции продолжается так: «...еще в меньшей мере, чем Достоевский, понял он, что истинная “церковь даже и в компромисс временный с государством сочетаться не может, - тут нельзя уже в сделки вступать”, и что единственный реальный путь к Царству Божьему, Боговластию, есть разрушение всех человеческих царств, то есть величайшая из всех революций» [Мережковский 1908, 80]. Во «французской» редакции фрагмент «еще в меньшей мере, ~ в сделки вступать”» исключен [Мережковский 1999, 162], вероятно, потому, что эти слова принадлежат не Ф. Достоевскому как мыслителю, а персонажу его романа «Братья Карамазовы» [Достоевский 1976, 60] и непосредственно мысли писателя не выражают.
В первой редакции статьи Д. Мережковский говорил о письме Л. Толстого к Александру III с просьбой помиловать цареубийц: «Верил же, значит, и Л. Толстой, где-то в самой тайной глубине сердца своего, верил, может быть, не меньше Достоевского, в святыню православного самодержавия» [Мережковский 1907, 2, 82]. Во второй редакции абзац завершается фрагментом, отсутствующим в первой: «Есть же, значит, какой-то страшный соблазн в этом самом русском из русских безумий: царь - “Помазанник Божий”; царь - Христос, ибо Христос и значит “Помазанник Божий”» [Мережковский 1908, 77]. Далее во всех редакциях статьи следует: «Толстой отправил письмо свое будущему обер-прокурору

Св. Синода К.П. Победоносцеву, одному из ближайших друзей покойного Достоевского, для передачи государю. Но Победоносцев отказался от передачи и объяснил отказ тем, что смотрит на христианство не так, как Толстой» [Мережковский 1908, 77]. Далее на текст второй редакции накладывается правка во «французской». Представим их так: текст первой редакции - обычным шрифтом, «французской» - с подчеркиванием, второй редакции - полужирным: «Христос, простивший собственных убийц, не простил бы, по мнению Победоносцева, убийц русского царя. Это и значит то, что всегда значило православное самодержавие: русский царь - иной Христос» [Мережковский 1908, 77-78; Мережковский 1999, 159]. Во «французской» редакции автор смягчает свой вывод о позиции К. Победоносцева. Во второй редакции его мнение звучит более утвердительно: «Но Победоносцев отказался от передачи и объяснил отказ тем, что смотрит на христианство не так, как Толстой: Христос не простил бы убийц русского царя» [Мережковский 1908, 77]. Абзац во второй редакции завершается таким выводом: «Письмо все-таки было передано Александру III через другие руки. Но царь ничего не ответил и казнил цареубийц. С этого времени Толстой начал проповедовать религиозную анархию» [Мережковский 1908, 78]. Удивительна связь, установленная здесь между обращением Л. Толстого к царю и характером его религиозности. Никогда прежде в своих исследованиях Д. Мережковский так не судил о причинах его критического отношения к христианству. В книге «Л. Толстой и Достоевский» Д. Мережковский довольно ясно изложил свое понимание причин борьбы писателя с церковью, его бунта против догматов, «опошления» им мистического смысла христианства. Но между попыткой Л. Толстого спасти цареубийц и его учением все же не устанавливалась прямая причинно-следственная связь: Д. Мережковский провел ее в риторических целях.
Наиболее существенное отличие второй редакции от первой состоит в двух фрагментах, вписанных в последнюю главку. После фрагмента: «Во всяком случае, не случайное совпадение, повторяю, то, что русскою революцией последние судьбы самодержавия и отделением церкви от государства во Франции последние судьбы папства решаются одновременно: это две половины одного всемирного переворота, два начала одного великого конца» [Мережковский 1908, 114] Д. Мережковский вписал абзац:
«Самодержавие, в том особенном религиозном смысле, в каком оно существует в России, никогда не существовало в Западной Европе. Там религиозный смысл монархии истощен и ослаблен сначала духовным самодержавием пап, потом реформацией и, наконец, революцией. Вот почему западноевропейские монархии могли быть ограничены народным представительством. Русский самодержец не может ограничить собственной власти, потому что источник ее в абсолютной святыне, в помазании Божием, которого нельзя умерить никакою относительною человеческою мерою. Помазанник Божий - или самодержец, или ничто. Конституция в России менее возможна, чем республика. Самодержавие, как цар-

ство Человекобожества, - такая же безумная химера, неосуществимая утопия, как тот рай земной, царство человечества без Бога, о котором мечтают самые крайние и отвлеченные анархисты. Как папа, если бы даже захотел, не мог бы отречься от первосвященства, так царь - от самодержавия. Нельзя погнуть, можно только разбить стекло; нельзя ограничить, можно только уничтожить самодержавие» [Мережковский 1908, 114-115].
Этот фрагмент демонстрирует тот путь, который он прошел от книги «Л. Толстой и Достоевский» до статьи «Революция и религия». Завершая публикацию книги в 1902 г, он описывал религиозный проект, существенно отличающийся от его последующей идеи Церкви Третьего Завета. В эти годы Д. Мережковский сочувствовал идеям Н. Гоголя как автора «Переписки с друзьями...» и Ф. Достоевского, создателя «Дневника писателя». В заключении к своей книге он утверждал, что православие является единственной формой, «в которой выразилось религиозное сознание русского народа», излагал мысль о соединении православия и самодержавия под сенью легендарного Пресвитера Иоанна, будущего православного царя, который осуществит ожидаемое народом «священное царство»: «Православие есть дух самодержавия; самодержавие есть плоть православия. Дух и плоть, православие и самодержавие для русского народа не два, а одно, или, по крайней мере, он верит, что они должны быть и будут одно» [Мережковский 1902, 128].
Впоследствии Д. Мережковский кардинально пересмотрел этот тезис и занял воинствующую позицию по отношению к собственным взглядам: «...Я считаю мой тогдашний взгляд на государство, - писал он Н. Бердяеву, - не только политическим, историческим, философским, но и глубоким религиозным заблуждением. <...> Между государством и христианством для нас не может быть никакого соединения, никакого примирения: “христианское государство” - чудовищный абсурд» [Мережковский 1914, XIV, 171]. Признаваясь Н. Бердяеву, что он заблуждался, Д. Мережковский ссылался на первую русскую революцию, изменившую его точку зрения. Но его движение в сторону борьбы с самодержавием, думается, началось раньше, и было связано не только с событиями в общественной и политической жизни, но и с внутренней логикой его собственного развития. Прививка символизма, которому внятны искания «миров иных», проникновение за «дымку явлений», ощущение тесной и неявной связи между ними, вероятно, не могли не противоречить казенному прозаизму практики самодержавия. Увлеченность же писателя народничеством обернулась, в конечном счете, интересом к сектантству, в котором ему виделись искания нового Бога, разрушение косных ритуалов православия и прозрение недоступной для исторического христианства мистики пола и общественности.
Своего рода отголоском этого внутреннего конфликта и выглядит последняя вставка в статью «Революция и религия». «Но согласится ли народ с тою легкостью?», - писал Д. Мережковский в первой редакции ста-

тьи и во второй продолжал:
«...отречется ли от Бога для того, чтобы отречься от царя? а что царь не от Бога, что самодержавие, царство Человекобожества несовместимо с истинною Церковью, Царством Богочеловечества, - этого народ не может понять, оставаясь в православной церкви, для которой смешение обоих царств неодолимый соблазн. И если бы даже в самой церкви произошло разделение, новый раскол, и одна часть ее, отрекшись от самодержавия, примкнула к революции, а другая, лишившись светского владыки, самодержца, избрала владыку духовного - патриарха, то в обоих случаях церковь одинаково изменила бы подлинной, не только исторической, но и мистической сущности православия, с тою лишь разницей, что в первом - уклонилась бы в протестантство, во втором - в католичество. Но достаточно двух-трех мучеников за истинную веру, за “царя православного”, чтобы в них сосредоточилась вся жизненная сила церкви, чтобы, наконец, встала она, как расслабленный, с одра своего, хотя и не по слову Господа, и осуществила такую реакцию, такой террор, что перед ними побледнеют все ужасы нынешних “черных сотен”. Во всяком случае, народу будет тогда предстоять окончательный выбор между возвращением к самодержавию в какой-то новой, чудовищной форме папоцезаризма, Пугачева, соединенного с Никоном, и между отречением от православия. Тогда и революция сойдет с теперешней плоскости своей, социально-политической, в глубину религиозную, которая, впрочем, включит и эту плоскость, как третье измерение включает второе» [Мережковский 1908, 115-116].
Завершение статьи «Революция и религия» содержит достаточно ясное предвидение характера новой революции: «В последнем крушении русской церкви с русским царством не ждет ли гибель Россию, если не вечную душу народа, то смертное тело его - государство?» [Мережковский 1908, 116]. В 1917 г. Д. Мережковский получил возможность убедиться в ее последствиях [Мережковский 2001, 58]: его умозрительные рассуждения о революции столкнулись с ужасами социального переворота.
История текста статьи «Революция и религия» свидетельствует о существенных сдвигах в интеллектуальных исканиях Д. Мережковского. Начав с популяризации легенды о Пресвитере Иоанне, он пришел к отрицанию положительного смысла православного самодержавия. Идея религиозной революции, высказанная в статье «Революция и религия» и выраженная с помощью документов декабристов, получила развитие в произведениях писателя 1910-х гг.
Список литературы К истории текста статьи Д. Мережковского "Революция и религия"
- Мережковский Д.С. Революция и религия // Русская мысль. 1907. № 2. С. 64-85; № 3. С. 17-34.
- Мережковский Д.С. Революция и религия // Мережковский Д.С. Не мир, но меч. К будущей критике христианства. СПб., 1908. С. 41-117.
- Мережковский Д.С. Религия и революция // Мережковский Д., Гиппиус З., Философов Д. Царь и революция / Первое русское издание под ред. М.А. Колерова. М., 1999.
- Мережковский Д.С. О новом религиозном действии (Открытое письмо Н.А. Бердяеву) // Мережковский Д.С. Полное собрание сочинений: в 24 т. Т. XIV. М., 1914. С. 166-187.
- Мережковский Д.С. Записная книжка. 1919-1920 // Мережковский Д.С. Царство Антихриста: статьи периода эмиграции / сост., коммент. О.А. Коростелева и А.Н. Николюкина; послесл. О.А. Коростелева. СПб., 2001. С. 53-81.
- Павлова М. Мученики великого религиозного процесса // Мережковский Д., Гиппиус З., Философов Д. Царь и революция / Первое русское издание под ред. М.А. Колерова. М., 1999. С. 7-54.
- РГИА. Ф. 796. Оп. 107. Д. 468. 44 л.
- Шиман Т. Убиение Павла I и восшествие на престол Николая I (Die Ermordung Pauls und die Thronbesteigung Nikolaus I): новые материалы. Берлин, 1902.
- Щеголев П. Катехизис Сергея Муравьева-Апостола (Из истории агитационной литературы декабристов) // Минувшие годы. 1908. № 11. Ноябрь. С. 50-80.
- Холиков А.А. Религия как сверхтема во втором прижизненном полном собрании сочинений Д.С. Мережковского // Сибирский филологический журнал. 2013. № 3. С. 79-87.