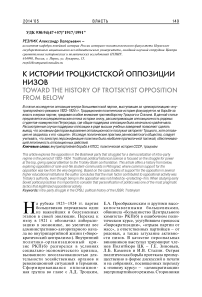К истории троцкистской оппозиции низов
Автор: Резник Александр Валерьевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Первая мировая
Статья в выпуске: 5, 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуется оппозиция внутри большевистской партии, выступавшая за «демократизацию» внутрипартийного режима в 1923-1924 гг. Традиционная политическая история фокусируется на борьбе за власть в верхах партии, придавая особое внимание противоборству Троцкого и Сталина. В данной статье предлагается исследовательская оптика истории снизу, рассматривающая оппозиционность рядовых студентов-коммунистов Петрограда, где общая поддержка оппозиции была изначально крайне мала. Рассмотренные случаи поддержки оппозиции в ряде высших учебных заведений позволяют сделать вывод, что основным фактором выражения оппозиционности послужил авторитет Троцкого, хотя оппозиция не сводилась к его «защите». Исследуя политические практики раннесоветского общества, следует учитывать, что зачастую персонификация политики была наиболее прагматичной тактикой, обеспечивающей легитимность оппозиционных действий.
Внутрипартийная борьба в кпсс, политическая история ссср, троцкизм
Короткий адрес: https://sciup.org/170167457
IDR: 170167457
Текст научной статьи К истории троцкистской оппозиции низов
Н а рубеже 1923–1924 гг. партия большевиков переживала один из важнейших и болезненных этапов в своей эволюции. Переход к нэпу в 1921 г. обозначил либерализацию в экономике, но увеличил вес административно-авторитарного начала во внутрипартийной жизни («бюрократический централизм»). Внутренний политико-организационный кризис РКП(б) разгорелся в условиях социально-экономического кризиса, вызванного несогласованностью деятельности хозяйственных органов и революционной ситуацией в Германии. Сформировавшаяся оппозиционная группа во главе с Л.Д. Троцким,
Е.А. Преображенским и другими высокопоставленными большевиками, обвинила «большинство Центрального комитета» РКП(б) в ошибочном политическом курсе, усугубившем процессы «бюрократизации», «отрыва партии от масс», а ответственных партийцев – от рядовых, а также затухание активности низов. В качестве персональных виновников выступал триумвират членов Политбюро ЦК – Г.Е. Зиновьев, Л.Б. Каменев и И.В. Сталин. Острая политическая борьба протекала преимущественно в форме дискуссий в печати и на собраниях, посвященных переходу к «новому курсу» – «демократизации» внутрипартийного режима. Сторонники
«тройки» заостряли проблему единства партии в противовес «раскольнической» деятельности оппозиционеров. Шла борьба за голоса рядовых членов партии, отдаваемых за те или иные резолюции. В низовых и провинциальных парторганизациях, которые должны были сформировать свою позицию исключительно на основе партийной прессы (в основном подконтрольной сторонникам ЦК), многие авторы критических выступлений попадали в разряд оппозиционеров независимо от их желания. К январю 1924 г. оппозиционное меньшинство, обвиненное XIII партийной конференцией в «мелкобуржуазном уклоне», было вынуждено признать свое поражение, особенно в условиях масштабного политического траура по В.И. Ленину, умершему 21 января 1924 г. [РКП(б)… 2004].
Подчеркнем: внимание большинства исследователей было приковано к сюжету «борьбы за власть» в верхушке партии – на уровне ЦК и Политбюро ЦК КПСС. Часто борьба была представлена в персонифицированном виде, в первую очередь как противостояние Троцкого и Сталина, в советской историографии – как «борьба партии с троцкизмом» [Вяткин 1966; Дмитриенко 1976]. Глубокий анализ документов Э.Х. Карром делает его книгу актуальной и поныне [Carr 1954]. Однако история внутрипартийной борьбы всегда оставалась закрепленной за «традиционной» политической историей, концентрирующей внимание на властных верхах, центрах (институциональных и географических) и производимых ими текстах. Это характерно в т.ч. для таких разных исследователей, как Дэниэлс, Роговин, Павлюченков [Daniels 1960; Роговин 1992; Павлюченков 2008].
Среди новейших исследований оппозиции особое место занимает книга И. Халфина [Halfin 2007], изучившего дискурсивные практики «демонизации» внутрипартийной оппозиции, в т.ч. на материалах дискуссий в Петроградском коммунистическом университете им. Зиновьева. На первый план вышли исследования «субъективности» и «языковых игр», тогда как институциональные, сетевые и другие аспекты политической борьбы как таковой отошли на задний план.
Субъективен и сам источник – протоколы партийных собраний.
Цель данной статьи – ответить на вопрос о формах выражения оппозиционности студентов-коммунистов в Петрограде. Петроград был основной базой поддержки «тройки» в борьбе против оппозиции. Политическая борьба к ноябрю–декабрю 1923 г. перекинулась из верхов в низы – в форме дискуссий о внутрипартийном положении. Результаты дискуссий в Петрограде изначально играли важную политикопропагандистскую роль в деле осуждения оппозиции, а потому условия для выступления оппозиции в низах были крайне неблагоприятными. Это актуализирует изучение немногочисленных выступлений «против течения».
В отличие от московских студентов-оппозиционеров, публиковавшихся в центральном органе КПСС – газете «Правда», петроградские студенты почти не использовали периодическую печать. Руководство «Петроградской правды» поддерживало ЦК. Дискуссия не перекинулась на страницы журнала «Красный студент» или подобные ему издания. Губернская отчетно-выборная конференция в конце ноября 1923 г. прошла под аккомпанемент речей с выражением «единства». На общем собрании Горного института 29 ноября, за две недели до резкого ожесточения внутрипартийных дискуссий, один из студентов задал вопрос, «почему бюро коллектива раньше не устроило дискуссию о партстроительстве и задачах партии, до районной конференции», и предложил поставить членам бюро на вид 1 . В тот же день в Институте народного хозяйства проходило «обсуждение доклада тов. Зиновьева о задачах партии». В ходе собрания прозвучали критические мнения, но они не предвещали последующей радикализации 2 .
Важно, что делегаты от вузовских ячеек сами смогли убедиться, что оппозиция, если она вообще существовала, на конференции никак себя не проявила. Тем легче было принять тезис большинства
ЦК о том, что вопреки единогласно принятой членами ЦК и ЦКК резолюции «О внутрипартийной демократии» (опубликована 7 декабря) Троцкий пошел на конфликт, опубликовав письмо «Новый курс», прямо адресованное «партийным совещаниям». Кстати, «Петроградская правда» опубликовала письмо 12 декабря на первой странице, но рядом с передовой «Под знаком единства». «Новый курс» Троцкого, помимо прочего, содержал тезис, особенно привлекательный для студентов: «Поскольку в партийный аппарат входят неизбежно более опытные и заслуженные товарищи, постольку бюрократизм аппарата тяжелее всего отзывается на идейнополитическом росте молодых поколений партии. Именно этим объясняется тот факт, что молодежь – вернейший барометр партии – резче всего реагирует на партийный бюрократизм» 1 .
Сторонники ЦК интерпретировали этот тезис как «противопоставление» поколений внутри партии. 15 декабря публикуется статья Сталина с беспрецедентно резкой критикой в адрес Троцкого 2 . Но гораздо более важную роль сыграло «Письмо петроградской организации членам нашей партии», принятое по докладу Зиновьева на общегородском собрании бюро ячеек и активных работников 15 декабря почти единогласно (из примерно 3 000 делегатов 5 были «против» и 7 «воздержались»). Главным объектом критики стал персонально Троцкий 3 . Однако действия Сталина, Зиновьева и редакции газеты «Правда» возымели и обратный эффект – появились резолюции «в защиту» Троцкого. Политика стремительно персонализировалась.
Вопрос о Троцком стал центральным на собрании Петроградского государственного университета. Открывший прения Горбачев «выразил недовольство» тем, что докладчик употребил термин «троцкизм»; в целом же он был согласен с докладчиком. Другой оратор, Куразов, заявил, что причиной недовольства партийных масс стало «создание касты», которую необходимо «разредить». «Считаю, что надо вопрос ставить, как ставит его т. Троцкий», – заявил выступивший. Тем не менее сторонники ЦК в ПГУ получили в 2 раза больше голосов4.
Дискуссионное собрание в Горном институте также не свелось исключительно к защите Троцкого, но отразило более широкий спектр оппозиционных взглядов. Вывод многих выступавших сводился к необходимости обновления аппарата партии. В итоге резолюция сторонников ЦК получила лишь на 8 голосов больше альтернативной 5 .
В Государственном институте медицинских знаний большинство ораторов были настроены оппозиционно, продолжение собрания даже перенесли на следующий день. Часть выступавших солидаризировалась с Сапроновым и Преображенским, часть стояла на позициях Троцкого. В целом критические выступления все же были далеки от четкой оппозиции большинству ЦК. Те, кто вступал в полемику с безусловными сторонниками большинства ЦК, черпали аргументы преимущественно из местного опыта. Представляются справедливыми слова одного из них: «Расхождение выступавших товарищей объясняется тем, что многие не хотят признать, что в партии не все в порядке». В итоге 38 голосами была принята резолюция: «против письма собрания петроградских активных работников, направленного против т. Троцкого, как подрывающего единство и силу партии» 6 .
Оппозиционеры, как правило, использовали авторитет Троцкого в качестве «подпорки» своей аргументации. В этой связи красноречива формулировка резолюции, предложенной на дискуссионном собрании в Эстонском педагогическом институте: поддержать новый курс «при исполнении [его] так, как тов. Троцкий в своей статье указывал» 7 . Неизвестно, сколько голосов было отдано за это предложение. В целом за резолюцию в поддержку ЦК голосовали
53 партийца ячейки, против – 13 и 3 воз-держались 1 .
Таким образом, на материалах политических дискуссий в петроградских вузах можно сделать вывод, что, выбирая форму выражения оппозиционных взглядов, студенты-коммунисты исходили, с одной стороны, из факта непопулярности оппозиции, а с другой – из факта высокого авторитета Троцкого. Образ оппозиции был менее ясным и цельным, чем образ Троцкого. Хотя оппозиция низов не была однородной, наиболее эффективным приемом для всех оппозиционеров служила «защита Троцкого» от дискредитации (а значит, защита партии) и опора на его авторитет посредством ссылок и цитирования. Мы считаем, что оппозиция 1923 г. не была «троцкистской», но в определенном смысле «троцкизм» был частью оппозиции.
Исследование выполнено при поддержке фонда «Открытое общество».