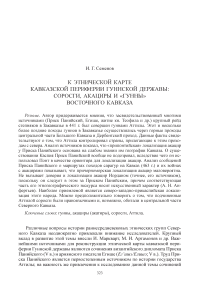К этнической карте кавказской периферии гуннской державы: соросги, акациры и «гунны» Восточного Кавказа
Автор: Семенов И.Г.
Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran
Статья в выпуске: 244, 2016 года.
Бесплатный доступ
Автор придерживается мнения, что засвидетельствованный многими источниками (Приск Панийский, Егише, житие кн. Теофила и др.) крупный рейдстепняков в Закавказье в 441 г. был совершен гуннами Аттилы. Этот и несколько более поздние походы гуннов в Закавказье осуществлялись через горные проходы центральной части Большого Кавказа и Дербентский проход. Данные факты свидетельствуют о том, что Аттила контролировал страны, прилегающие к этим проходам с севера. Анализ источников показал, что «припонтийская» локализация акациру Приска Панийского основана на слабом знании им географии Кавказа. О существовании Каспия Приск Панийский вообще не подозревал, вследствие чего он использовал Понт в качестве ориентира для локализации акацир. Анализ сообщений Приска Панийского о маршрутах походов сарагур на Кавказ (463 г.) и их войнах с акацирами показывает, что причерноморская локализация акацир маловероятна.Не вызывает доверия и локализации акацир Иорданом (точнее, его источником),поскольку он следует в этом за Приском Панийским, причем соответствующая часть его этногеографического экскурса носит искусственный характер (А. Н. Ан-фертьев). Наиболее приемлемой является северо-западно-прикаспийская локализация этого народа. Можно предположительно говорить о том, что подчиненные Аттилой соросги были ираноязычными и, возможно, обитали в центральной части Северного Кавказа.
Гунны, акациры (акатиры), соросги, аттила
Короткий адрес: https://sciup.org/14328328
IDR: 14328328
Текст научной статьи К этнической карте кавказской периферии гуннской державы: соросги, акациры и «гунны» Восточного Кавказа
Егише и ряда других раннесредневековых кавказских авторов мне уже приходилось обращать внимание.
Егише был хорошо информирован о современных ему событиях в Передней Азии, Малой Азии, Средней Азии и в Восточной Европе и хорошо ориентировался в политической жизни этих регионов. Немалая часть приводимой информации черпалась им из указов современных ему сасанидских шаханшахов. Это касается и его богатейшего этнонимического материала.
В связи с темой настоящей статьи необходимо обратить внимание на особенности употребления этим автором этнонима honk‛ / Honk‛ , который в древнеармянском языке может иметь значение либо ‘гунны’, либо ‘Страна гуннов’, причем элемент -k‛ представляет собой армянский формант множественного числа, и он же является и этнотопоформантом.
Термином Honk‛ в труде Егише обозначаются два разных этнополитических объединения. Одно из них – это Кушанское царство. Так, в одном месте его сочинения говорится: «Внезапно двинулся он (шаханшах Ездигерд II (439–457). – И. С .) против государства страны hОнов1, которых называют Кушанами…» ( Егише , 1971. С. 31).
Другое этнополитическое объединение, которое в сочинении Егише фигурирует как Honk‛ , именуется в нем еще и параллельным названием Hajg‛ndurk‛/ Hajlndurk‛ «Страна hайлндур» (или «hайлндуры»). Среди упоминаний этого термина можно привести следующее: «…Перестали Хайлндуры выходить через пограничную крепость Чора…» ( Егише , 1971. С. 31), то есть через Дербентский проход.
Еще один пример употребления этого термина связан с восстанием албанского царя Вачэ II против сасанидского шаханшаха Пероза (459–484) около 460 г. Персы, будучи в этот момент связаны тяжелой войной с эфталитами, «отправили огромные сокровища в страну Хайлндуров, открыли Аланские ворота и выставили многочисленное войско из hОнов, и сражались один год с царем Албании. Хотя и поколебались и рассеялись его войска от войска hОнов, но его не смогли покорить. К тому же и тяжелые поранения постигли hОнов, частью в боях, частью и от мучительных болезней» (Там же. С. 170). Таким образом, если в первом случае хайлндуры связываются с Дербентским проходом, то в последнем – с Дарьяльским ущельем («Аланские врата»).
Высказывались довольно противоречивые интерпретации этнонима «хайл-ндур» (Тревер, 1959. С. 214. Прим. 4; Артамонов, 1962. С. 60–61; Гадло, 1979. С. 26; Джафаров, 1980. C. 153–162; 1985. С. 45). Наиболее обоснованной и логичной представляется идентификация его И. Марквартом как «царской орды» европейских гуннов (Marquart, 1899. S. 96. Anm. 3)2. Связь этого этнонима с европейскими гуннами представляется несомненной, так как в рассматриваемый период именно они доминировали в Восточной Европе и на Северном Кавказе вплоть до Дербентского прохода (см. ниже). Однако точка зрения И. Маркварта нуждается в некотором уточнении и корректировке: этноним «хайлндур», безусловно, принадлежал военно-политическому ядру европейских гуннов, но при этом надо иметь в виду, что Егише применяет этот этноним ко всему населению Гуннского (Хайлндурского) государства, то есть в расширительном смысле. Это видно из того, что, как уже отмечалось, в одном случае хайлндуры связываются им с Дербентским проходом, а в другом – с Дарьяльским ущельем.
Переходя к вопросу об экспансии европейских гуннов на Кавказе, отмечу, что в одной из моих работ проводится сопоставление данных Приска Паний-ского о нападении гуннов Аттилы на Иран ( Priscus Panites . Fragmenta. Fr. 8) и сообщения Егише об одном из рейдов гуннов в Закавказье3. Совпадение ряда существенных деталей в их данных позволяет уверенно утверждать, что речь у обоих авторов идет об одной и той же военной кампании. Немаловажно также и то, что сообщения Егише и Приска Панийского взаимно дополняют друг друга. Так, если Приску Панийскому было известно о выдвижении гуннов в Закавказье через Дарьяльское ущелье и об их отступлении вдоль западного берега Каспийского моря, то Егише упоминает также о наступлении гуннов через Дербентский проход. Последнее косвенным образом подтверждается данными жития кн. Теофила (сохранилось в составе «Истории страны Алуанк‛» / «История Албании»: Мовсэс Каланкатуаци , 1984. Главы 1. 28–30. С. 61–64), в котором также приводится описание отдельных эпизодов этой войны, причем ряд деталей в этом житии совпадает с сообщениями Егише и Приска Панийского. Это же житие позволяет датировать нападение гуннов на Закавказье весной 441 г. ( Семенов , 2007. С. 43).
Данные этих источников свидетельствуют о том, что в 441 г. гуннами были задействованы очень крупные силы и разграблению ими подверглись Армения, Иберия (Картли), Албания, а также сопредельные области Византийской империи.
Егише упоминает еще о двух нападениях гуннов на Закавказье, а именно о разорении ими иранской провинции Атрпатаканк‛ (ее среднеперсидское название – Адурбадаган ; северо-западная часть современного Ирана). Одно такое нападение имело место в 450 г. ( Егише , 1971. С . 73), другое – в 451 г. (Там же. С . 116). Эти и другие факты свидетельствуют о том, что в период правления Аттилы гунны достаточно прочно контролировали страны, прилегающие с севера к Дербентскому проходу и к горным проходам центральной части Большого Кавказа, через которые и осуществлялись эти военные акции. Это позволяет считать, что при Аттиле ряд стран этого региона становятся периферией Гуннской державы. В зоне Дербентского прохода и близ Дарьяльского ущелья границы Гуннской державы смыкались с рубежами Саса-нидского государства.
Несомненно, что основательные шаги к расширению контроля над северокавказскими странами предпринимались гуннами еще до их масштабного набега на сасанидские владения в 441 г., и поэтому можно достаточно уверенно предполагать, что соросги (Σορόσγοι), с которыми, по словам Приска Паний-ского, Аттила начал войну в 434 г. (Priscus Panites. Fragmenta. Fr. 1), являлись кавказскими иранцами и что сам термин соросг, как предполагал Г. С. Дестунис, является иранским титулом предводителя асов (осы): *сар-и осаг – «царь (глава) осов» (Сказания Приска Панийского. С. 22. Прим. 1)4.
Предложенную Г. С. Дестунисом этимологию можно несколько откорректировать: *сар + осаг – по аналогии с упоминаемым Менандром Протектором (VI в.) именем или, вернее, титулом кавказско-аланского правителя Саросий (Σαρωσίου, Σαρωδίος; Menanderi Fragmenta, 1871. Fr. 4. P. 4; Fr. 22. P. 55–56) – Сар + ос (* Сар + ос – без иранского суффикса -аг/-ак ). Скорее всего, эти осы обитали в центральной части Большого Кавказа, но бесспорных доказательств, помимо приведенных выше доводов общеполитического порядка и косвенных доводов лингвистического порядка, пока нет. Еще один аргумент, также не имеющий решающей силы, может состоять в том, что война с ними могла быть вызвана намерением Аттилы взять под свой контроль подходы к Дарьяльскому ущелью и тем самым создать плацдарм для нападений на территорию Сасанид-ского государства, причем со временем, как показывают последующие события, этот план был реализован.
В ряде моих работ, посвященных анализу жития восточнокавказско-гунн-ского князя Теофила, было показано: из сообщений этого источника следует, что европейские гунны не рассматривали кавказских гуннов в качестве своих соплеменников ( Семенов , 2013а. С. 142–151; 2013б. С. 38–44; 2014. С. 43–54). Таким образом, именование источниками кавказских гуннов этим этнонимом является условным, и связана эта условность с их вхождением в состав Гуннской державы и подчиненным положением по отношению к собственно гуннам.
В ближайшее время будет опубликована моя статья, посвященная этнокультурной принадлежности населения «Страны гуннов» (на территории современного Прикаспийского Дагестана). В ней показано, что та группа кавказских гуннов (еще раз повторю, что это название является условным), которая обитала на территории современного Дагестана и ареал расселения которой в двух армянских источниках – «Армянской географии» VII в. и «Истории страны Алуанк’» - представлен как «Страна гуннов» ( Honk' )5, в период правления Аттилы являлась ираноязычной. Основная аргументация сводится к следующему.
Сообщения «Истории страны Алуанк‛», относящиеся к 682 г., показывают, что религиозные представления населения этой Страны гуннов в данный период носили синкретический характер (Кляшторный, 1981. С. 64; 1984. С. 18–22; Аладжов, 1983. С. 76–86; Гмыря, 1980. С. 42–44; 1986. С. 90–108; 1995. С. 217, 224). Так, теоним Тангри-хан (T'angrixan) (Мовсэс Каланкатуаци, 1984. Гл. 2. 40. С. 124), несомненно, связан своим происхождением с тюркским теонимом Täŋri, имеющим значение ‘небо’, ‘бог’, а теоним Куар (K‛uar) (Там же) имеет прозрачную иранскую этимологию – xwar ‘солнце’ (The History of the Caucasian Albanians by Movsēs Dasxuranci, 1961. P. 156. Note 1; Гадло, 1979. С. 146; Кляшторный, 1984. С. 21; 2006. С. 315; Новосельцев, 1990. С. 145). Исконными для населения Страны гуннов могли быть только иранские культы, так как воздействие на него тюркской культуры могло иметь место только после начала крупных миграций тюркоязычных племен из Центральной Азии в Восточную Европу. Между тем первая надежная миграция в этот регион тюркоязычных племен, а именно сарагур и оногур, относится к 60-м гг. V в. Но, скорее всего, заимствование населением Страны гуннов тюркских культов и теонимов относится к еще более позднему периоду, а именно ко времени экспансии Тюркского каганата. Указанных заимствований было много, причем они очень точно отражали свои тюркские оригиналы. Последнее позволяет уверенно говорить о заимствовании к 682 г. населением Страны гуннов всего древнетюркского пантеона с последующей контаминацией его с местными иранскими божествами и культами. Тогда же верхушкой Страны гуннов были заимствованы и упоминаемые «Историей страны Алуанк‛» тюркские придворные титулы (авчи и др.).
Итак, субстратное население дагестанской Страны гуннов изначально или, лучше сказать, при Аттиле являлось ираноязычным, а к 682 г. оно подверглось определенной тюркизации. Последнее было обусловлено включением данной территории в состав Тюркского каганата, а позднее в состав Хазарского каганата. Можно полагать, что этот процесс в наибольшей степени затронул социальную верхушку дагестанских гуннов, но о степени влияния культуры Тюркского каганата на рядовое население судить трудно.
Есть основания предполагать, что первая или одна из самых первых волн миграций тюркоязычных или, точнее, огуроязычных племен из Центральной Азии в Восточную Европу связана с акацирами ( Семенов , 2013в).
Напомню, что акациры6 впервые упоминаются в связи с событиями первой половины V в.: по сообщению Приска Панийского, византийский император Феодосий II Младший (408–450 гг.), чтобы не допустить их сближения с Аттилой, издавна направлял им посольства с дарами; во время очередного византийского посольства главный из акацирских вождей, Куридах, обиженный тем, что при раздаче подношений императора византийский чиновник перепутал дары, призвал в союзники Аттилу, и тот, направив значительное войско, разгромил остальных акацирских вождей и подчинил их (Prisci Fragmenta. Fr. 8. P. 298. 25–28 ). Вслед за этим Аттила поставил своего старшего сына Эллака правителем акацир и «других народов, населявших припонтийскую Скифию» (Prisci Fragmenta. Fr. 8. P. 310. 29-31 . См. также: Fr. 8. P 298. 28 ).
Как будет показано ниже, определение Приском Панийским акацир как обитателей «припонтийской Скифии», то есть Северного Причерноморья, является явным недоразумением, и связано оно со слабым знакомством этого автора с географией Северного Кавказа.
Значительную путаницу в локализацию акацир вносят данные Иордана, который сообщает по этому поводу следующее: акациры ( Acatziri ) жили к югу от эстиев и к северу от болгар, причем последних он помещает к северу от Понта (Iord. Get. § 36, 37). Это побудило М. И. Артамонова, О. И. Менхен-Гельфена и др. локализовать акацир в Северном Причерноморье ( Артамонов , 1962. С. 56, 128, 258; Maenchen-Helfen , 1973. P. 365, 366). В наше время эта точка зрения никем не подвергается сомнению, и, к примеру, И. П. Засецкая и М. М. Казанский локализуют акацир к северу от Приазовья ( Засецкая, Казанский , 2007. С. 106)7. В работе же М. М. Казанского и А. В. Мастыковой, специально посвященной этому вопросу, акациры связываются с одной из синхронных групп археологических памятников Подонья ( Казанский, Мастыкова , 2009. С. 124).
Однако можно с достаточной степенью уверенности говорить о том, что указанное сообщение Иордана восходит к данным Приска Панийского – через посредство Кассиодора и предшественника последнего – Аблабия (см. вводную статью А. Н. Анфертьева к переводу извлечений из труда Иордана ( Анфертьев , 1994. С. 100)). Кто-то из них, так же как и современные исследователи, излишне буквально расценил указание византийского автора о том, что Эллак был назначен правителем акацир и «других припонтийских народов»8. Опираясь на данные того же Приска Панийского, можно утверждать, что всего через полтора десятилетия оногурское нашествие застигло акацир где-то в восточной части Предкавказья (см. ниже). Об искусственном характере «этногеографической картины» у Иордана высказывается также А. Н. Анфертьев ( Анфертьев , 1994. С. 134–136. Комм. 107). Это, в частности, касается и локализации Иорданом акацир (Там же. С. 141. Комм. 120).
Для уточнения вопроса о локализации акацир необходимо обратиться к другим данным Приска Панийского. В одном из фрагментов сочинения под 7-м годом правления императора Льва I (457–474), то есть под 463–64 годом, сообщается о посещении Константинополя оногурским посольством:
…Около этого времени к восточным римлянам прислали послов сарагу-ры, уроги и оногуры, племена, выселившиеся из родной земли вследствие враждебного нашествия сабиров, которых выгнали авары, в свою очередь изгнанные народами, жившими на побережье океана… Так и сарагуры, изгнанные с родины, в поисках земли приблизившись к уннам-акатирам и сразившись с ними во многих битвах, покорили это племя и прибыли к римлянам, желая приобрести их благосклонность. Император и его приближенные, обласкав их и дав подарки, отправили их назад (Prisci Fragmenta. Fr. 30. P. 341. 1-20 )9.
Принято считать, что сарагуры (Σαράγουροι) являлись одним из подразделений оногур (Όνόγουροι), причем они составляли аристократическое ядро оно-гурского объединения ( Moravcsik , 1930. S. 59), так как, во-первых, из сообщений Приска следует, что именно сарагурам и принадлежало лидерство в действиях трех упомянутых народов, во-вторых, этноним «сарагур», скорее всего, содержит тюркский корень сари- ‘белый, желтый’, а этот цвет ассоциировался у древних тюркоязычных народов с благородством ( Новосельцев , 1990. С. 125), с аристократическим происхождением. Что же касается этнонима «оногур», то в нем обычно выделяют две составляющие – тюркское он- ‘десять’ и -огур/-угур . Отсюда следует предположение о том, что оногуры представляли собой союз десяти родов, объединившихся вокруг сарагур ( *сари-огур )10. Некоторое время доминировала точка зрения о том, что носителями этнонима огур являлись угорские народы (см., напр.: Moravcsik , 1930. S. 53–90; Артамонов , 1962. С. 76; Гумилев , 1967. С. 35. Прим. 49, 50; С. 151; Засецкая, Казанский , 2007. С. 119)11, однако в настоящее время она подвергается обоснованной критике (см., напр.: Егоров , 2013. С. 50 сл.). Наиболее же хорошо аргументированной представляется гипотеза, связывающая этот термин с центральноазиатским огуз , одним из значений которого является ‘племя’ (с учетом -р ~ -з соответствия в огурских языках и языках общетюркского типа; Абаев , 1958. С. 37; Кляшторный, Султанов , 2000. С. 137; Голден , 2005. С. 32).
Последующая судьба сарагур и их союзников изложена в другом фрагменте сочинения Приска Панийского. К сожалению, этот фрагмент не имеет даты:
Сарагуры после нападения на акатиров и другие племена выступили походом против персов. Сначала они приблизились к Каспийским воротам, но найдя их занятыми персидской охраной, перешли на другую дорогу, по которой пришли к иберам, и стали опустошать их страну и тревожить набегами поселения армениев; вследствие этого персы, опасаясь этого нашествия сверх завязавшейся у них раньше войны с кидаритами, отправили к римлянам посольство с просьбой дать им денег или людей для охраны укрепления Юроипаах. Эти послы говорили то, что уже и раньше часто говорилось ими в посольствах, именно, что римская земля остается невредимой благодаря тому, что они выдерживают битвы и не дозволяют наступающим варварским народам проходить через свою землю. Но им был дан ответ, что всякий должен защищать свою землю и заботиться об ее охране, и с этим они двинулись в обратный путь без успеха (Prisci Fragmenta. Fr. 37. P. 346. 7-16) 12 .
Цитированные фрагменты позволяют высказать ряд суждений относительно локализации акацир накануне вторжения сарагур. Существенным в данном случае является вопрос о локализации крепости Юроипаах, которая, по словам
Приска Панийского, лежит при «вратах Каспийских». В этой связи можно отметить, что В. Томашек объяснял название ’Ιουροει παάχ как армянское i-Verojpahak «Иверская защита» ( Tomaschek , 1897. Sp. 489), а И. Маркварт – как Wiroj pahak или Ivroj-pahak «Иверийское укрепление» ( Marquart , 1899. S. 100, 106; Markwart , 1931. S. 100); и то и другое – от армянского -wer- ‘ибер’, ‘картлиец’. И. Марк-варт и К. П. Патканов (Патканьян) рассматривали также возможность сопоставления термина «Юроипаах» с армянским названием укрепления в Дербентском проходе – Чора пахак ( Патканьян , 1863. С. 13. Прим. 1; Marquart , 1899. S. 106; См. также: Семенов , 2002. С. 21) «Чорское укрепление», однако название крепости ’Ιουροει παάχ, фигурирующее у византийского автора VI в. Иоанна Лида в форме Βιραπαράχ (Joannis Lydi de magistratibus populi Romani libri tres, 1903. § III. 52. P. 245 и сл.), позволяет убедиться в том, что реконструируемое В. Тома-шеком и И. Марквартом значение термина ’Ιουροει παάχ как «Иверийское укрепление» является наиболее приемлемым.
Ю. А. Кулаковский локализовал эту крепость в Дарьяльском ущелье ( Кула-ковский , 1910. С. 115). К этой точке зрения примкнули и другие исследователи ( Моммзен , 1949. Т. V. С. 370. Прим. 2; Markwart , 1931. S. 100; Артамонов , 1962. С. 63, 64. Прим. 69; Isaac , 1990. P. 230. Note 62; Перевалов , 2001. С. 283)13. Таким образом, поскольку у Приска Панийского под Юроипаах подразумевалась крепость, расположенная в Дарьяльском ущелье, то «врата Каспийские» должны соответствовать самому этому ущелью. Однако ряд исследователей не без оснований полагают, что в сообщении Приска о том, что сначала сарагуры попытались вторгнуться в Закавказье через «Каспийские врата», последние должны соответствовать Дербентскому проходу ( Тревер , 1959. С. 214, 215, 271; Артамонов , 1962. С. 62; Гадло , 1979. С. 53; Джафаров , 1985. С. 52). И действительно, если оценивать данные Приска с точки зрения географической и военно-стратегической ситуации, то сарагуры и их союзники должны были попытаться воспользоваться маршрутом самым удобным и наиболее близким к Волге, которую перед этим пересекли сарагуры, а именно вдоль западного берега Каспия – через Дербентский проход; однако, обнаружив в проходе персидские войска (и укрепления, построенные при сасанидском шаханшахе Ездигерде II (см.: Кудрявцев , 1978. С. 252–257), они повернули назад и прошли в Закавказье через Дарьял.
В таком случае следует предполагать, что Приск Панийский, как и многие другие греко-латинские авторы, не имел ясного представления о названиях двух наиболее важных кавказских горных проходов (одни авторы называли «Каспийскими воротами» Дарьяльское ущелье, другие – Дербентский проход14) и явно перепутал их. И таким образом, следуя мнению М. И. Артамонова, надо признать, что у Приска в одном случае Каспийские ворота должны соответствовать Дербентскому проходу, а в другом, когда речь идет о местоположении крепости Юроипаах, – Дарьяльскому проходу (Артамонов, 1962. С. 62; см. также: Джафаров, 1985. С. 51–52). Из этого следует, что сарагуры с союзниками сначала попытались вторгнуться в Закавказье через Дербентский проход, а затем через Дарьяльское ущелье. Из этого также следует, что Приск Панийский не особенно хорошо разбирался в географии Кавказа.
Об этом же свидетельствует еще и передача Приском Панийским рассказа Ромула, посланника Западной Римской империи к Аттиле:
Ромул сказал, что Мидия находится не на большом расстоянии от Скифии и что уннам не безызвестен этот путь, так как они уже давно делали вторжение в Мидию, когда их родина была застигнута голодом и римляне не оказали им сопротивления вследствие случившейся тогда другой войны. Таким образом, пришли тогда в Мидию Басих и Курсих из племени царских скифов, предводители больших скопищ народа, впоследствии прибывшие в Рим для заключения военного союза. Перешедшие говорили тогда, что они прошли пустынную страну, переправились через озеро, которое Ромул считал Меотидой, и через пятнадцать дней пути, перевалив через какие-то горы, вступили в Мидию. Пока они опустошали страну своими набегами, выступившие против них полчища персов наполнили стрелами разлитое над ними воздушное пространство, так что унны из страха перед наступившей опасностью обратились вспять и перевалили через горы с небольшой добычей, так как большая часть ее была отнята мидянами. Опасаясь преследования со стороны неприятелей, они повернули на другую дорогу и подле пламени, поднимавшегося из подводной скалы, отправившись оттуда... дней пути прибыли на родину. Так и узнали они, что Мидия находится не на большом расстоянии от Скифии ( Приск Панийский . Готская история, см.: Латышев , 1948. [Отр.] 8. С. 257 [688]).
Здесь Приск проявляет незнание того факта, что к югу от Меотиды (Азовское море) лежат Кавказские горы. Отсутствует у него и представление о Каспийском море, вдоль берега которого и отступали гунны; нет у него упоминаний о Каспии и в других фрагментах его сочинения. И это притом, что еще античной географией были накоплены обширные знания по физической и этнической географии этого региона (ср. труды Страбона (I в. до н. э. – начало I в. н. э.), Птолемея (II в. н. э.) и др.).
Таким образом, поскольку Каспийское море Приску Панийскому было незнакомо, естественным ориентиром для него при локализации народов Восточной Европы могли служить только Понт и Меотида. И, следовательно, припонтий-ская локализация акацир у Приска Панийского является обобщенной и не вполне конкретной. Кстати, совершенно так же Стефан Византийский (VI в.) помещал савир в глубине Понтики (Stephani Byzantii Ethnicorum quae supersunt. P. 15), тогда как на основании других источников устанавливается, что в VI в. савиры обитали в Северо-Западном Прикаспии ( Семенов , 2011. С. 46–50), однако и для этого византийского автора ориентиром для локализации савир послужил Понт.
Переходя к более детальной проработке вопроса о местоположении акацир, необходимо признать, что если бы акациры обитали в западной части Предкавказья или тем более в Северном Причерноморье, то вряд ли могли бы подвергнуться нападению сарагур перед их походом к Дербентскому проходу, так как в этом случае перемещения сарагур по Предкавказью и Причерноморью выглядели бы зигзагообразными – сначала далеко на запад для того, чтобы подчинить акацир, затем далеко на восток для того, чтобы вместе с акацирами прорваться через Дербентский проход, оттуда снова на запад, чтобы пройти в пределы Ирана через Дарьяльское ущелье. Несостоятельность причерноморской локализации акацир проявляется еще и в том, что после нападения на акацир сарагурам было бы логичнее из Причерноморья сразу же направиться к Дарьяльскому ущелью, так как в этом случае путь в пределы Сасанидского государства был бы значительно короче.
Надо полагать, что в действительности сарагуры изначально намеревались выйти к Дербентскому проходу, и их война с акацирами была связана с тем, что область расселения последних располагалась на пути от Нижней Волги к Дербентскому проходу, то есть в Северо-Западном Прикаспии. Промежуточный вариант локализации акацир – в степной зоне каспийско-черноморского междуморья – является крайне маловероятным, так как в V в. в предкавказской степи начинается засушливый период (см., напр.: Демкин и др. , 2010. С. 92–113), поэтому акациры могли жить только вблизи крупных рек – либо в низовьях Терека и Волги, либо в Нижнем Прикубанье.
Для рассматриваемого вопроса небезынтересно также устоявшееся в историографии представление о том, что сарагуры и их союзники в период своей миграции в Восточную Европу воевали в Северном Причерноморье с гуннами. Это мнение базируется на информации Приска Панийского о том, что в 469 г. один из сыновей покойного Аттилы – Денгизих – принял решение начать войну против Византии, тогда как другой его сын – Эрнах – отказался поддержать брата, так как «его отвлекали местные войны» (Prisci Fragmenta. Fr. 36. P. 346). И. Марквартом было высказано предположение о том, что противниками Эрна-ха в этих войнах являлись сарагуры и их союзники ( Marquart , 1898. S. 75, 76). Впоследствии эта гипотеза нашла поддержку у М. И. Артамонова и других исследователей ( Артамонов , 1962. С. 62; Maenchen-Helfen , 1973. P. 166; Джафаров , 1985. С. 50 сл.; Засецкая, Казанский , 2007. С. 103; и др.).
В этой же связи можно напомнить, что «Армянская география» VII в. фиксирует хазар в Северо-Западном Прикаспии ( Патканов , 1883. С. 29; The Geography of Ananias of Sirak [Asxarhac‛oyc‛], 1992. P. 55), а данные письма хазарского царя Иосифа ( Коковцов , 1932. С. 102) позволяют локализовать собственно Хазарию между западной частью волжской дельты и Нижним Тереком ( Семенов , 2001. С. 40–47; 2008. С. 203–221; 2009. С. 289–314). Совпадение предлагаемой здесь локализации акацир с более поздним ареалом расселения хазар, с одной стороны, подтверждает неоднократно выдвигавшуюся в историографии гипотезу об идентичности хазар и акацир, а с другой – является дополнительным аргументом в пользу гипотезы о северо-западно-прикаспийской локализации акацир. Можно напомнить и о сообщении «Равеннского Анонима»: «Иордан называет акацирами тот народ, который мы называем хазарами» (Ravennatis Anonymi Cosmographia. P. 168. 14 ). На этом основании высказывалось мнение об идентичности акацир хазарам ( Кулаковский , 1898. С. 190–191; Moravcsik , 1958. Bd I. S. 58, 59, 335, 336; Пигулевская , 1939. С. 110; Гадло , 1979. С. 16, 17; Семенов , 2013в), но другие исследователи придерживались иной точки зрения ( Marquart , 1903. S. 41. Anm. 2; Артамонов , 1962. С. 56. Прим. «*»; Цукерман , 2001. С. 313).
Список литературы К этнической карте кавказской периферии гуннской державы: соросги, акациры и «гунны» Восточного Кавказа
- Абаев В. И., 1958. Историко-этимологический словарь осетинского языка. Т. I. М.; Л.: Изд-во АН СССР. 655 с.
- Аладжов Ж., 1983. За култа към Тангра в средновековна Българиа//Археология. № 1-2. С. 76-86.
- Анфертьев А. Н., 1994. Иордан//Свод древнейших письменных известий о славянах. Т. I: I-VI вв./Сост.: Л. А. Гиндин, С. А. Иванов, Г. Г. Литаврин. М.: Восточная литература. С. 98-161.
- Артамонов М. И., 1962. История хазар. Л.: Изд-во ГЭ. 524 с.
- Гадло А. В., 1979. Этническая история Северного Кавказа IV-X вв. Л.: Изд-во Ленинградского гос. ун-та. 215 с.
- Гмыря Л. Б., 1980. Некоторые сведения о гуннах в Дагестане//Материалы по археологии Дагестана. Т. 9: Древние и средневековые археологические памятники Дагестана/Отв. ред. А. Р. Шихсаидов. Махачкала: Дагкнигоиздат. С. 152-169.
- Гмыря Л. Б., 1986. Языческие культы у гуннов Северо-Восточного Кавказа//Обряды и культы древнего и раннесредневекового населения Дагестана/отв. ред. М. А. Агларов. Махачкала: Дагестанский филиал АН СССР. С. 90-108.
- Гмыря Л. Б., 1995. Страна гуннов у Каспийских ворот. Махачкала: Дагестанское кн. изд-во. 228 с.
- Голден П., 2005. Достижения и перспективы хазарских исследований//Евреи и славяне. Т. 16: Хазары. Иерусалим: Гешарим; М.: Мосты культуры. С. 27-68.
- Гумилев Л. Н., 1967. Древние тюрки. М.: Наука. 504 с.
- Демкин В. А., Демкина Т. С., Золотарева Б. Н., Хомутова Т. Э., Каширская Н. Н., Удальцов С. Н., 2010. Почвенный покров и климат Азиатской Сарматии//Нижневолжский археологический вестник. Вып. 11. Волгоград. С. 92-113.
- Джафаров Ю. Р., 1980. Оногуры византийских писателей и хайлндуры//Византийский временник. Т. 41. C. 153-162.
- Джафаров Ю. Р., 1985. Гунны и Азербайджан. Баку: Элм. 124 с.
- Егише, 1971. О Вардане и войне армянской/Пер. с др.-арм. И. А. Орбели; примеч. К. Н. Юзбашяна. Ереван: Изд-во АН АрмССИ 192 с.
- Егоров Н. И., 2013. Проблемы этнокультурной идентификации средневековых древностей Урало-Поволжья: финно-угры или огуры?//II Международный Мадьярский симпозиум: сб. науч. тр./Отв. ред.: С. Г. Боталов, Н. О. Иванова. Челябинск: Рифей. С. 47-70.
- Засецкая И. П., Казанский М. М., 2007. Морской Чулек и Понтийские степи в постгуннскую эпоху//Засецкая И. П., Казанский М. М., Ахмедов И. Р., Минасян Р. С. Морской Чулек: Погребения знати из Приазовья и их место в истории племен Северного Причерноморья в постгуннскую эпоху. СПб.: Изд-во ГЭ. С. 101-121.
- Казанский М. М., Мастыкова А. В., 2009. «Царские» гунны и акациры//Гунны, готы и сарматы между Волгой и Дунаем: сб. науч. ст./Науч. ред и предисл. А. Г. фурасьева. СПб.: Фак-т филологии и искусств СПбГУ С. 114-126. (Nomadica.)
- Кляшторный С. Г., 1981. Пантеон северокавказских гуннов и его связи с мифологией древних тюрков центральной Азии//Культурные взаимосвязи народов Средней Азии и Кавказа с окружающим миром в древности и средневековье. М.: Наука. С. 114-126.
- Кляшторный С. Г., 1984. Праболгарский Тангра и древнетюркский пантеон//Сборник в памет на проф. Станчо Ваклинов. София: Българска Академия на науките, Археологически Институт и музей, Институт за история. С. 18-22.
- Кляшторный С. Г., 2006. Памятники древнетюркской письменности и этнокультурная история Центральной Азии. СПб.: Наука. 591 с. (Восток: Общество, культура, религия.)
- Кляшторный С. Г., Султанов Т. И., 2000. Государства и народы Евразийских степей: Древность и средневековье. СПб.: Петербургское Востоковедение. 320 с.
- Коковцов П. К., 1932. Еврейско-хазарская переписка в X в. Л.: Тип. АН СССР. XXXVIII + 134 с. + 4 табл.
- Кудрявцев А. А., 1978. О датировке первых САСАнидских укреплений в Дербенте//СА. № 3. С. 252-257.
- Кулаковский Ю., 1898. К истории Готской епархии (в Крыму) в VIII веке//ЖМНП. № 2. С. 173-202.
- Кулаковский Ю., 1910. История Византии. T 1: (395-518). С двумя картами, планом Константинополя и разрезом его стен. киев: типолит. «С. в. кульженко». 559 с.
- Латышев В. В., 1948. Приск Панийский. Готская история//ВДИ. № 4. С. 244(675) -267(698). (Приложение. Латышев В. И. Известия древних писателей о Скифии и Кавказе; Ч. 1: Греческие писатели.)
- Мовсэс Каланкатуаци, 1984. История страны Алуанк'/Пер. с др.-арм., предисл. и коммент. Ш. В. Смбатяна. Ереван: Изд-во АН АрмССР 258 с.
- Моммзен Т., 1949. История Рима. T V: Провинции от Цезаря до Диоклетиана. М.: Иностранная литература. 632 с.
- Новосельцев А. П., 1990. Хазарское государство и его роль в истории Восточной Европы и Кавказа. М.: наука. 264 с.
- Обломский А. М., 2008. Некоторые соображения о походах дружин короля готов Германариха на восток//Лесная и лесостепная зоны Восточной Европы в эпохи римских влияний и Великого переселения народов. Вып. 1/Отв. ред. А. Н. Наумов. Тула: Гос. музей-заповедник «Куликово поле». С. 142-162.
- Патканов К., 1883. Из нового списка Географии, приписываемой Моисею Хоренскому//ЖМНП. Март. С. 21-32.
- Патканьян К. П., 1863. Опыт истории династии Сасанидов по сведениям, сообщаемым армянскими писателями//СПб.: Тип. Имп. Акад. наук. XXIV, 90 с. (Извлеч. из 8 ч. «Тр. Восточн. отделения Русск. археологич. об-ва».)
- Перевалов С. М., 2001. Арриан у ворот Кавказа//Проблемы истории, филологии и культуры. Вып. Х. С. 292-289.
- Пигулевская Н. В., 1939. Сирийский источник VI в. о народах Кавказа//ВДИ. № 1. С. 107-115.
- Семенов И. Г., 2001. К вопросу об исторической географии Хазарии//Сборник Русского исторического общества. № 4 (152). С. 40-47.
- Семенов И. Г., 2002. Этнополитическая история Восточного Кавказа в III-VI веках: Автореф. дис.... канд. ист. наук. Махачкала. 28 с.
- Семенов И. Г., 2007. Генеалогия картлийских царей: от Мириана III до Вахтанга Горгасала. Махачкала: ООО «ДИНЭМ». 76 с.
- Семенов И. Г., 2008. Гидрография Северного Прикаспия по данным «Армянской географии» VII века и письма хазарского царя Иосифа (X в.)//Северный Кавказ в древности и средние века: сб. ст., посвящ. 80-летию чл.-корр. РАН проф. Р М. Мунчаева/Отв. ред. А. И. Османов. Махачкала: Ин-т истории, археологии и этнографии Дагестанского научного центра РАН. С. 203-221.
- Семенов И. Г., 2009. География собственно Хазарии и вопрос о поисках иудейско-хазарских памятников//Хазарский альманах. Т. 8. С. 289-314.
- Семенов И. Г., 2011. Локализация савир по данным Прокопия Кесарийского и «Армянской географии» VII века//Диалог городской и степной культур на евразийском пространстве: материалы V междунар. конф., посвящ. памяти Г. А. Федорова-Давыдова (Астрахань, 2-6 октября 2011 г.). Казань: Ин-т истории им. Ш. Марджани АН РТ С. 46-50.
- Семенов И. Г., 2013а. Военно-политические отношения восточнокавказских гуннов с Аттилой//Восток (Oriens). Афро-азиатские общества: история и современность. № 4. С. 38-44.
- Семенов И. Г., 2013б. Основные этапы миграций огурских племен в Юго-Восточную Европу//Тюркологический сборник. 2011-2012: Политическая и этнокультурная история тюркских народов и государств/Ред.: С. Г. Кляшторный, Т. И. Султанов, В. В. Трепавлов. М.: Наука: Вост. лит. С. 333-349.
- Семенов И. Г., 2013в. Ранние этапы христианизации восточнокавказских гуннов//Вопросы истории. № 4. С. 142-151.
- Семенов И. Г., 2014. Место правителя восточнокавказских гуннов в иерархии государства европейских гуннов (по данным «Истории страны Алуанк»)//КСИА. Вып. 234. С. 43-54.
- Сказания Приска Панийского/Пер. Г. С. Дестуниса. 1860. СПб.: Тип. Имп. Акад. Наук. 112 с. (Отд. отт. из VI книги Ученых Записок, издаваемых Вторым Отделением Императорской Академии Наук.)
- Тревер К. В., 1959. Очерки по истории и культуре Кавказской Албании (IV в. до н. э. -VII в. н. э.). М.; Л.: Изд-во АН СССР. 391 с.
- Фурасьев А. Г., 2013. Акациры -соседи эстиев//АСГЭ. Вып. 39. С. 185-196.
- Цукерман К., 2001. хазары и византия: первые контакты//МАиЭТ вып. VIII/ред.-сост. а. и. Айбабин. Симферополь: Таврия. С. 312-333.
- The Geography of Ananias of Sirak (Asxarhac'oyc'): The Long and the Short Recensions/Introduction, Trans. and Comm. by R. H. Hewsen. Wiesbaden: Reichert, 1992. XII, 499 p.: maps.
- The History of the Caucasian Albanians by Movsēs Dasxuranci/Trans. by C. J. F. Dowsett. London: Oxford University Press, 1961. XX, 252 p. (London Oriental Series; vol. 8.)
- Isaac B., 1990. The Limits of Empire. The Roman Army in the East. Oxford: Oxford University Press. XIV, 492 p., 15 figs., 5 maps.
- Joannis Lydi de magistratibus populi Romani libri tres/Ed. R. Wünsch. Lipsiae: In aedibus B. G. Teubner, 1903. (Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana. Scriptores Graceci.)
- Maenchen-Helfen O. J., 1973. The World of the Huns (Studies of Their History and Culture)/Ed. By Max Knicht. Berkley; Los Angeles: University of California Press. 602 p.
- Marquart J., 1898. Die Chronologie der alttürkischen Inschriften. Leipzig: T. Weicher. 112 s.
- Marquart J., 1899. Eransahr nach der Geographie der Ps. Moses Xorenaci. Mit historisch-kritischem Kommentar und historischen und topographischen Excursen. Berlin: Weidmansche Buchhandlung. 358 s.
- Marquart J., 1903. Osteuropäische und ostasiatische Streifzüge: ethnologische u. historisch-topographische Studien zur Geschichte des 9. und 10. Jahrhunderts (ca. 840-940). Leipzig: Dieterich'sche Verlagsbuchhandlung, T. Weicher. 557 s.
- Markwart J., 1931. Iberer und Hyrkanier. Mit e. Exkurs: Li-Kan//Caucasica. 8. Leipzig: Verlag Asia Major. S. 78-113.
- Moravcsik Gy., 1930. Zur Geschichte der Onoguren//Ungarische Jahrbucher. 10. S. 53-90.
- Moravcsik Gy., 1958. Byzantinoturcica. 2. Auflage. Berlin: Akademie-Verlag. 2 Bd.
- Priscus Panites, 1868. Fragmenta/Ed. C. Müller//Fragmenta historicorum graecorum. Vol. IV. Parisiis: Editore Ambrosio firmin didot Instituti imperialis Frangle typografo. P. 69-110.
- Menanderi Fragmenta//HGM. Vol. II: Menander Protector et Agathias/Ed. L. Dindorfius. Lipsiae: In Aedibus B. G. Teubneri, 1871. P. 3-131.
- Prisci Fragmenta//HGM. Vol. I/Ed. L. Dindorfius. Lipsiae: In aedibus B. G. Teubneri, 1870. P. 275-352.
- Ravennatis Anonymi Cosmographia et Guidonis geographica/Eds.: M. Pinder, G. Partley. Berolini: In aedibvs Friderici Nicolai, 1860. 700 p.
- Stephani Byzantii Ethnicorum quae supersunt. Berolini: Impensis G. Reimeri, 1849. 817 p.
- Tomaschek W., 1897. Biraparach//Pauli -Wissowa -Kroll. Real Enzyklopädie der Klassischen Altertumswissenschaft. Bd III, 1: Barbarus-Campanus. Stuttgart. Sp. 489.