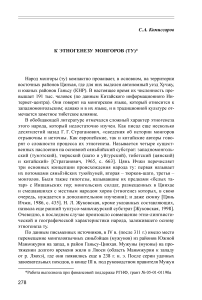К этногенезу монгоров (ту)
Автор: Комиссаров С.А.
Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas
Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья
Статья в выпуске: XIII, 2007 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14521342
IDR: 14521342
Текст статьи К этногенезу монгоров (ту)
Народ монгоры (ту) компактно проживает, в основном, на территории восточных районов Цинхая, где для них выделен автономный уезд Хучжу, и южных районов Ганьсу (КНР). В настоящее время их численность превышает 191 тыс. человек (по данным Китайского информационного Ин-тернет-центра). Они говорят на монгорском языке, который относится к западномонгольским; однако и в их языке, и в традиционной культуре отмечается заметное тибетское влияние.
В обобщающей литературе отмечался сложный характер этногенеза этого народа, который недостаточно изучен. Как писал еще несколько десятилетий назад Г. Г. Стратанович, «сведения об истории монгоров отрывочны и неточны. Как европейские, так и китайские авторы говорят о сложно сти процесса их этногенеза. Называется четыре суще ст-венных наслоения на основной сяньбийский субстрат: западномонгольский (тумэтский), тюркский (шато и уйгурский), тибетский (цянский) и китайский» [Стратанович, 1965, с. 663]. Цянь Ичжи перечисляет три основных концепции происхождения народа ту: первая называет их потомками сяньбэйских туюйхуней, вторая – тюрков-шато, третья – монголов. Были также гипотезы, называвшие их предками «белых татар» с Иншаньских гор; монгольских солдат, размещенных в Цинхае и смешавшихся с ме стным народом хоров (этногенез которых, в свою очередь, нуждается в дополнительном изучении); и даже сюнну [Цянь Ичжи, 1986, с. 435]. Н. Л. Жуковская, кроме указанных со ставляющих, назвала еще ранний тунгусо-маньчжурский субстрат [Жуковская, 1998]. Очевидно, в последнем случае произошло совмещение этно-лингвистической и географической характеристики народа, заложившего основу этногенеза ту.
По данным письменных источников, в IV в. (после 311 г.) имело место перемещение монголоязычных сяньбэйцев (мужунов) из районов Южной Маньчжурии на запад, в район Ганьсу-Цинхая. Мужуны (муюны) на протяжении долгого времени жили в Ляоси (область Маньчжурии к западу от р. Ляохэ), где они появились еще в 238 г. н. э. После серии удачных завоевательных походов, в конце III в. под руководством правителя Мужун
Гуя значительная часть правящей верхушки перебирается южнее (в район современного г. Цзиньчжоу), а в 342 г. вождь Мужун Хуан, принявший титул яньского вана, переносит столицу на запад, в г. Лунчэн (соответствует современному г. Чаоян) (см.: [Чжунго Дунбэй ши, 1987, с. 450-469; Дунбэй лиши дили, 1989, с. 44-45; Материалы по истории.., 1992, с. 18-19]). Более века являясь политическим центром региона, объединение мужунов активно взаимодействовало с местными племенами, в том числе и тунгусо-маньчжурскими.
Ситуация с расколом изначально единого народа красочно описана в китайских летописях. В них рассказывается о том, как подрались лошади из кочевий, принадлежавших двум братьям – сыновьям вождя, Туюйхуню и Жологую [Материалы по истории…, 1984, с. 216-218]. Данную легенду можно воспринимать как метафорическое указание на нехватку пастбищ, что и вынудило часть сяньбэйцев отправиться на поиски новых земель для выпаса скота. С этой миграцией археологи связывают появление на Цинхай-Тибетском плато, в окрестностях знаменитого «голубого» озера Кукунор, памятников, в составе которых выделяются предметы, характерные для культуры сяньбэй. К таковым, в частности, относятся бронзовые бляхи, изображающие двух лошадей, причем маленькая лошадка стоит на спине большой [Линь Юнь, 2005]. В довольно сложной композиции зашифрован некий мифологический сюжет, пока нам не понятный; несомненно, что эти изображения указывают на особое почитание лошади у сяньбэйцев, которая, как свидетельствует летопись «Вэй шу», даже решила вопрос о направлении миграции всего народа [Материалы по истории…, 1984, с. 216-217].
В поисках новых земель отдельные отряды сяньбэйских воинов могли довольно глубоко проникать на юг, в пределы горного Тибета. Так, именно с туюйхунями мы считаем возможным связывать захоронение в Чацзягоу, расположенное на высоте 4600 м над уровнем моря [Комиссаров, 2002, с. 355]. В нем, кстати, тоже найдены пластины с фигурками лошадок, выполненные из золота.
Создав свое государственное образование, сяньбэйцы (туюйхуни) в течение всего раннего средневековья принимали активное участие в политической и экономической жизни региона. В V в. они воевали с династией Северная Вэй, вторгались на территорию Западного края, даже захватили и разграбили Хотан (см.: [Викторова, 1980, с. 136]). В течение двухлетней оккупации этого богатого торгового государства туюйхуни, по свидетельству источников, перебили половину населения и разрушили много буддийских храмов (сами они приняли буддизм позднее), после чего возвратились на прежние земли [Си юй…, 2003, с. 95]. Через их территорию проходила южная ветка Великого Шелкового пути, которая дополняла основной маршрут, лежавший через Ганьсуский коридор. Из Цинхая удобные пути вели как в северные, так и южные царства. Когда движение на северном отрезке перекрывалось из-за военных действий (что случалось нередко), то большинство караванов уходило на юг. Однако временное возвышение государства туюйхуней (называемых также тугухунями, тогонами, а-жа) не имело исторической перспективы; его существование становится разменной монетой непростых отношений между Китаем и Тибетом. В 663 г. это государство захватывают войска туфаней (тибетцев), власть которых продолжалась 350 лет [Кычанов, Мельников, 2005, с. 46]. Однако на протяжении практически всего периода туфаньского господства (VIII–X вв.) туюйхуни сохраняли своего правителя-кагана, всю структуру управления и племенное деление.
Вопреки сложившемуся (еще со времен произведения Сыма Гуана «Цзычжи тунцзянь») мнению о том, что туфани закрыли проход для товаров из Китая на запад, продолжалась и транзитная торговля, причем даже в больших объемах, чем раньше. Об этом свидетельствуют материалы масштабных раскопок, проведенных в районе г. Дуланя (к юго-западу от Кукунора, но к востоку от Цайдамской котловины), где, очевидно, находился один из центров вассального государства. Проведенный предварительный подсчет показал, что найденные там фрагменты шелковых тканей и по количеству, и по богатству рисунка превосходят находки в таких признанных перевалочных пунктах на торговых путях, как, например, Турфан. По данным Сюй Синьго, из 130 выделенных орнаментальных мотивов 112 (84 %) происходят из Китая, а оставшиеся 18 (16 %) – из Западной Азии [Сюй Синьго, 2006, с. 139]. С Западным краем и, далее, иранским миром связаны и некоторые другие находки. Особый интерес вызывают серебряные и позолоченные фигурки животных: оленей, лошадей, баранов, тигров и т. д. Возможно, именно тогда складываются особенности местного «звериного стиля», сохранившегося у «кочевников Северного Тибета» до этнографических времен [Рерих, 1992]. В нем сохраняется примерно тот же набор «зверей», что и в более раннем скифо-сибирском искусстве, однако практически отсутствуют композиции, позы животных становятся более статичными, выразительность достигается за счет тщательной проработки деталей.
Наиболее подходящим кандидатом на роль потомков туюйхуней из числа современных этносов Цинхая нам представляются ту (монгоры), как по их географическому размещению, так и по лингвистиче ской принадлежно сти (см. также: [Чжоу Вэйчжоу, 2006, с. 203-212]). Таким образом, в основе этногенеза народа ту, населявшего земли вокруг Кукунора, лежит сяньбэйский субстрат, при суще ственном участии в нем туфаней (тибетцев). Следует учитывать также влияние иранских народов, которое сказалось если не на этнических, то на культурных характеристиках предков монгоров. Сказанное не отрицает возможности участия туюйхуней и в формировании других народов – например, голоков, как своеобразной этнической группы в составе тибетцев [Комиссаров, 2006, с. 21, 22].