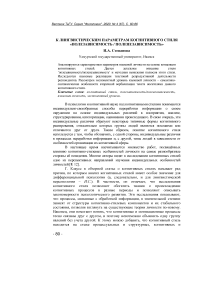К лингвистическим параметрам когнитивного стиля "полезависимость / поленезависимость"
Автор: Степанова Ирина Александровна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Экспериментальные исследования
Статья в выпуске: 4, 2020 года.
Бесплатный доступ
Анализируются характеристики параметров языковой личности на основе концепции когнитивных стилей. Дается детальное описание стиля «полезависимость/поленезависимость» и методики выявления полюсов этого стиля. Исследуются языковые реализации текстовой репродуктивной деятельности респондентов. Рассмотрен экспонентный уровень языковой личности - семантикосинтаксические особенности вторичной вербализации текста носителями данного когнитивного стиля.
Когнитивный стиль, полезависимость/поленезависимость, языковая личность, экспонентный уровень
Короткий адрес: https://sciup.org/146281760
IDR: 146281760 | УДК: 8, | DOI: 10.26456/vtfilol/2020.4.080
Текст научной статьи К лингвистическим параметрам когнитивного стиля "полезависимость / поленезависимость"
В психологии и когнитивной науке под когнитивными стилями понимаются индивидуально-своеобразные способы переработки информации о своем окружении на основе индивидуальных различий в восприятии, анализе, структурировании, категоризации, оценивании происходящего. В свою очередь, эти индивидуальные различия образуют некоторые типичные формы когнитивного реагирования, относительно которых группы людей являются похожими или отличаются друг от друга. Таким образом, понятие когнитивного стиля используется с тем, чтобы обозначить, с одной стороны, индивидуальные различия в процессах переработки информации и, с другой, типы людей в зависимости от особенностей организации их когнитивной сферы.
В настоящее время насчитываются множество работ, посвящённых влиянию когнитивно-стилевых особенностей личности на самые разнообразные стороны её поведения. Многие авторы видят в исследовании когнитивных стилей одно из перспективных направлений изучения индивидуальных особенностей личностей [8: 12].
Г. Клаусс в обзорной статье о когнитивных стилях называет ряд причин, по которым анализ когнитивных стилей имеет особое значение для дифференциальной психологии (а, следовательно, и для лингвистической персонологии - И.С.). В частности, он отмечает, что исследования когнитивного стиля позволяют обогатить знания о происхождении когнитивных процессов в разные периоды и позволяют описывать закономерности психологического развития. Эти исследования показывают, что процессы, связанные с обработкой информации, в значительной степени зависят от структуры когнитивно-стилевых компонентов и их стабильного состояния, позволяя взглянуть на существующие теории личности по-новому. Наконец, они помогают понять, что когнитивные и мотивационные процессы тесно связаны друг с другом, и поэтому невозможно объяснить одну группу явлений без учета другой. К этому можно добавить, что когнитивный стиль находится на стыке процессуальных и структурных, когнитивных и мотивационных аспектов личности, и потому его изучение даст возможность раскрыть механизмы формирования ее целостности [10: 136].
Существует две особенности, которые являются общими для исследований когнитивного стиля. Одна из них заключается в том, что когнитивный стиль описывается как континуум между двумя противоположными полюсами (например, рефлективностью и импульсивностью), на котором значения выраженности этого параметра у отдельных индивидов могут быть представлены точками. Таким образом, когнитивный стиль определяется соотношением между двумя противоположными тенденциями поведения. Вторая особенность заключается в том, что «отдельные познавательные стили выделяются не умозрительно, а эмпирически - с помощью экспериментальных методик, которые позволяют продемонстрировать наличие значительных индивидуальных различий и их устойчивость (цит. по [8: 12]). Действительно, все параметры когнитивного стиля обязаны своим происхождением практике психологического эксперимента, в рамках которого продолжает анализироваться их взаимосвязь с другими личностными характеристиками.
Из всех существующих в настоящее время когнитивных стилей наибольшее число исследований посвящено когнитивному стилю ‘полезависимость/поленезависимость’.
Впервые понятие ‘полезависимость/поленезависимость’ было введено Г. Уиткином в 1954 г. для описания индивидуальных различий в стремлении испытуемых полагаться на внешнее поле или на внутренние ощущения. Г. Уиткин попытался связать характеристики людей с их возможностью визуально выделять элемент из сложного контекста или поля. Как правило, элементом была простая геометрическая фигура, скрытая в более сложном рисунке. В подобных ситуациях поленезависимые испытуемые проявляли б о льшую способность преодолевать заданный горизонтальный контекст и извлекать релевантную информацию из окружающих стимулов; тогда как полезависимые испытуемые с подобной задачей справлялись намного хуже. Они рассматривали поля в их исходном виде и не могли проанализировать и структурировать их, в отличие от поленезависимых.
Считается, что дихотомия полезависимость/поленезависимость обнаруживает своё влияние в таких сложных видах интеллектуальной деятельности, как работа с текстом. В частности, отмечается превосходство поленезависимости обучающихся в условиях, когда текст требует переструктурирования и реорганизации. Если в качестве помощи для усвоения текста предлагаются вопросы умозаключающего типа, у поленезависимых обучающихся показатели понимания текста улучшаются, тогда как у полезависимых — ухудшаются (цит. по: [13: 10, 31]).
И. Реардон и И. Мур сделали вывод о том, что выделение стиля ‘полезависимость/поленезависимость’ из общего спектра когнитивных стилей связано с тем, что данный стиль включает познавательные способности и способности к решению задач, структурирование стимульного поля и его разделение, опущение нерелевантной информации и работу с высокой информационной нагрузкой (цит. по: [13: 7]).
Согласно Дж. В. Кифу, ‘полезависимость/поленезависимость’ определяет способ, посредством которого отдельные личности познают окружающий мир. Полезависимые лица воспринимают окружающее поле как нечто общее, не выделяя мелких деталей, тогда как поленезависимые лица способны увидеть отдельные детали в поле, отделить их от общего фона (цит. по: [12: 239]).
Весьма критично по отношению к параметру полезависимости/поленезависимости настроен Ф. Веpнон, который на основе анализа данных других авторов и своих собственных, пришёл к выводу, что поленезависимость - это всего лишь частное проявление общего фактора интеллекта. В то же время другие авторы, например, В. Клейес возражают против сведения полезависимости/поленезависимости к проявлению интеллектуальных способностей. Их аргументация строится на том, что данный параметр когнитивного стиля связан со многими поведенческими переменными, которые не могут быть правдоподобно объяснены как следствие общей деятельности интеллекта [8: 17].
Еще одно оригинальное объяснение связей между уровнем интеллекта и поленезависимостью предлагает К. Гроот [9: 143]. Он высказывает предположение, что в основе поленезависимости лежат определённые мотивационные факторы. Согласно его эмпирическим данным, поленезависимые индивиды обнаруживают средний уровень тревожности в ситуации тестирования и оценки социальных качеств. При измерении интеллекта они имеют оптимальный уровень активации, что и позволяет им получать наибольшие баллы. Таким образом, мотивация является связующим звеном между когнитивным стилем и уровнем интеллекта.
В языкознании изучение когнитивных стилей проводилось, в частности, в линвоаргументологической школе Л.Г. Васильева [11] (см: [1; 2; 3; 4]. Тем не менее, изучение стиля с полюсами ‘полезависимость/поленезависимость’ в этой школе не проводилось. Для восполнения этого пробела далее предлагаются некоторые теоретические и практические соображения, а также излагаются результаты проведенного эксперимента и их лингвистическая интерпретация.
Существует ряд методик выявления когнитивного стиля полезависимость/поленезависимость: методика «Стержень/рамка», которая является разновидностью тестов пространственной ориентации, методика «Регулирование положения тела», методика «Включённые фигуры» на основе методики К. Готтшальдта, представляющей разновидность перцептивных тестов, и различные групповые варианты методики «Включённые фигуры» [7: 25].
В нашем исследовании для определения когнитивного стиля полезависимость/поленезависимость применялся тест на основе методики «Фигурки Готтшальдта», а именно групповой вариант «Включённые фигуры» У. Эттриха АКТ-70. Данная методика предназначена для изучения эффекта «часть - целое». Испытуемому в верхней части листа предъявляются 5 простых фигур, в нижней — сложные фигуры (по 15 на каждом из двух листов) [8: 22]. Испытуемый должен найти и указать в протоколе для каждой сложной фигуры ту простую фигуру, которая включена в неё в качестве составной части. В методике эксперимента параметры полезависимости/поленезависимости исчисляются на основе учета следующих показателей: (а) общее время выполнения всего задания; (б) количество правильных ответов; (в) продуктивность, определяемая как частное от деления количества правильных ответов на время.
Индекс полезависимости рассчитывается по формуле:
I = N/t, где N – общая сумма баллов (т.е. число правильно выполненных заданий), t – время работы над всем тестом в минутах:
-
■ если I больше 2,5, то можно делать вывод о выраженной поленезависимости;
-
■ если I меньше 2,5, то можно делать вывод о несомненной полезависимости.
Таким образом, чем больше правильно выполненных заданий и меньше время работы с тестом, тем более выражен полюс поленезависимости.
Результаты эксперимента были использованы для анализа аргументативных возможностей испытуемых и особенностей вербализации аргументов в результирующем тексте, а также для описания языковых проявлений личностей, относящихся к разным полюсам когнитивного стиля.
В эксперименте приняли участие 200 приблизительно однородных с точки зрения социумно-возрастных параметров респондентов – это студенты 1-2 курсов биологического, географического, экономического, психологического факультетов Удмуртского государственного университета. В результате эксперимента было установлено, что 56 человек принадлежат полюсу ‘поленезависимость’, и 140 человек – к полюсу ‘полезависимость’. В зону неопределённости попали 4 человека. Результаты зоны неопределённости в данном случае мы оставляем без рассмотрения.
Во второй части эксперимента респондентам предъявлялся текст «Бизнес идёт в высшую школу» в устной и письменной форме, с учётом типов восприятия, аудиального и визуального. Ниже приводим данный текст.
Задача модернизации российской промышленности зачастую наталкивается на одну проблему. Идущие в ногу со временем компании внедряют современное оборудование, инновационные материалы и технологии, но самые передовые станки и компьютеры останутся бесполезным железом, если к работе на них не привлечь квалифицированных, умеющих обращаться с такой техникой высококлассных специалистов. Работодатель ожидает найти на рынке труда профессионалов, способных без дополнительного обучения сразу выдавать нужный результат. Однако найти таких не так просто. Во многом потому, что система образования не поставила их выпуск на поток. Чтобы утолить кадровый голод, промышленные компании вынуждены сами идти в учебные заведения.
Укреплению связей между бизнесом и образованием, в первую очередь - высшей школой, значительно содействовали поправки в профильное законодательство, принятые пять лет назад. Формами взаимодействия корпораций и вузов, как показывает практика, могут быть и базовые кафедры, прикреплённые к предприятиям, и научно-образовательные центры, и совместные образовательные программы. Ими все более активно пользуются компании во многих отраслях: банки, нефтяники, IT-компании, энергетики, машиностроители, металлурги.
Подход, когда будущий работодатель сам приходит в вуз и в тесном сотрудничестве с образовательным и научным сообществом готовит себе нужных специалистов, выгоден не только компаниям, которые получают «на выходе» сотрудников нужного уровня компетенций, обладающих знаниями всех практических тонкостей производственных процессов. Государство тоже оказывается в выигрыше. Во-первых, государственные расходы на образование в последние годы как минимум не растут, и подспорье со стороны бизнеса оказывается весьма кстати для бюджета. Во-вторых, престижный работодатель, вкладывая в обучение своих будущих сотрудников, удерживает специалистов на местах, оттягивает на себя центростреми- тельный поток абитуриентов, позволяет им реализоваться у себя дома - то, что нужно и для государственной кадровой политики. В-третьих, с ростом квалификации работников растет и столь необходимая для всей российской экономики в целом производительность труда.
Для вузов это тоже выгодно, поскольку компании вкладываются в обновление учебной материально-технической базы, повышение квалификации преподавателей и расширение специализации обучения. Абитуриенты, в свою очередь, получают если не гарантии, то по крайней мере реальные перспективы устроиться на привлекательную работу в топовых компаниях - Сбербанке и «Яндексе», «Роснефти», РУСАЛе и многих других.
Сотрудничество бизнеса и вузовско-школьного преподавания, очевидно, будет идти по нарастающей. В ходе недавнего обсуждения образовательных проблем, состоявшегося на Петербургском международном экономическом форуме, чиновники и эксперты констатировали: именно экономика, промышленность задают необходимый темп изменению стандартов обучения, но у государства не хватает ресурсов, чтобы поддерживать его. Так что во все большем взаимодействии предпринимательства и образовательных структур заинтересованы, похоже, все [5].
После двукратного прочтения респонденты сдавали печатные варианты текста. Затем испытуемым было предложено проанализировать текст и выполнить задание: «Изложите проблемы текста, которые автор пытается обосновать, и их аргументацию».
Для описания результатов эксперимента мы использовали концепцию языковой личности С.А. Сухих, согласно которой каждый уровень языковой личности отражается в структуре дискурса. Исследование дискурсивных особенностей происходит на трех уровнях: экспонентном, субстанциональном и интенциональном [6]. Здесь по соображениям объема мы приведём результаты анализа лишь экспонентного уровня.
Экспонентный уровень дискурса включает разнообразные словообразовательные и синтаксические структуры, связь между элементами предложений и самими предложениями, а также грамматическую категорию залога, распространённости предложений, способы соотнесения субъекта и предиката в предложении (т.е. на экспонентном уровне дискурса проецируется языковая компетенция личности).
На экспонентном уровне можно выделить корреляции между вербальными признаками и уровнем языковой личности. Так, при построении дискурса субъект общения предпочитает конструкции со значением динамичности или статичности, активности или пассивности. Это зависит от таких черт, как активность или созерцательность. К их формальным маркерам относятся глагольные формы со значением категории активности, а также предпочтение предикативных единиц номинативным и употребление пассивных конструкций, статальных предикатов.
На данном уровне мы описываем дискурсивные различия:
-
1) по типам предикатов: аудиальность, визуальность, кинестетичность, рациональность;
-
2) по соотношению субъектов и предикатов (залог);
-
3) по предпочтению предикатов со значением действия или статальности;
-
4) по синтаксической распространенности предложений.
Выделенные параметры используются для выявления языковых черт ‘активность/ созерцательность’ и ‘персуазивность/ голословность/ хэзитивность’.
Согласно проведенному анализу, в дискурсе поленезависимых личностей преобладают предикаты рациональности (43 %) (решать, считаю, передумаю, скажется, становится ).
Респонденты с этим полюсом стиля предпочитают конструкции со значением активности, формальными маркерами которых являются глагольные формы активного залога (95 %) (государство получает квалифицированных работников, автор поднимает проблему, предприятия выделяют деньги). Также большинство глагольных форм (60 %) имеет значение динамичности (мы убиваем двух зайцев, неспособность работать с ними, будет снабжать оборудованием, при этом государство не тратит на это средства). Эти особенности экспонентного уровня дискурса поленезависимых респондентов свидетельствуют о присущей им языковой черте ‘активность’.
Полезависимые респонденты в своем дискурсе используют предикаты визуальности (21 %) ( появляется, видит решение), рациональности (28 %) ( выделяет, заключается, происходит, связанные), кинестетичности (30 %) ( поднимается, устанавливают ), что говорит о близком их соотношении.
По признаку динамичности/статичности предикатов преобладают предикаты статичные (48 %) ( могут, выражается, является, считает, оказывается ). В дискурсе полезависимых респондентов чаще встречаются пассивные конструкции (28 %) ( мало выделяется средств, было сказано, говорится, оборудование обновляется, вузы обеспечиваются ), что указывает на наличие языковой черты ‘созерцательность’.
В дискурсе поленезависмых респондентов чаще встречаются распространённые предложения, и предложения чаще осложняются причастными и деепричастными оборотами (73 %) ( благодаря поддержке, оказываемой компаниями, финансируя учебные заведения, работники, не требующие дополнительного обучения ). Предложения же полезависимых респондентов реже осложняются причастными и деепричастными оборотами, и в них чаще встречаются (68 %) вводные конструкции ( оказалось, во-первых, во-вторых, наверное, к сожалению ).
Полученные данные являются результатом объективации названного уровня языковой личности. Их значимость, как представляется, заключается в том, что они позволяют сделать прогностику конкретного полюса языковой личности, т.е. при наличии в текстах данных манифестационных сигналов можно сделать вывод, что конкретный субъект со значительной долей вероятности принадлежит к тому или иному (в зависимости от конкретных языковых реализаций) полюсу -полезависимости или поленезависимости. Безусловно, названная прогностика приобретает тем большую вероятность, чем более значимым статистически являются полученные при анализе языковых массивов результаты.
Список литературы К лингвистическим параметрам когнитивного стиля "полезависимость / поленезависимость"
- Беседина Е.В. Аргументативный дискурс дискурсивно сложных и дискурсивно простых личностей: Дис. … канд. филол. наук: 10.02.19. / Калуга; Калужский гос. ун-т им. К.Э. Циолковского, 2011. 154 с.
- Зайцева В.Ю. Аргументативный дискурс носителей когнитивного стиля "конкретная / абстрактная концептуализация": Дис.... канд. филол. наук: 10.02.19 / Калуга; Калужский гос. ун-т им. К.Э. Циолковского, 2012. 181 с.
- Калашникова С.В. Лингвистические аспекты стилей мышления в аргументативном дискурсе: Дис. кандидата филологических наук: 10.02.19 / Калуга; Калужский гос. пед. ун-т им. К.Э. Циолковского, 2007. 191 с.
- Киселева В.В. Варьирование вербальных реакций в аргументативном дискурсе: Дис. … канд. филол. наук: 10.02.19 / Ижевск; Удмуртский гос. ун-т, 2006. 188 с.tion]. Blacksburg; Virginia Polytechnic Institute, September 6, 2006. 152 p.
- Столбунов В. Независимая газета URL: http://www.ng.ru/education/2017-08-03/8_7043_bisness.html
- Сухих С.А. Личность в коммуникативном процессе. Краснодар; Южный ин-т менеджмента, 2004. 155с.
- Холодная М.А. Когнитивные стили. О природе индивидуального ума. 2-е изд. СПб.: Питер, 2004. 384 с.
- Шкуpатова И.П. Когнитивный стиль и общение. Ростов н/Д.: Изд-во Ростовского пед. ун-та, 1994. 156 с.
- Clauss G. ZurPsychologie Kognitiver Stile. Neure entwicklungen in grehzbereich vonallgemeiner und personlich- keitpsychologie // Zur psychologischenpersonlichkeits forschung. Berlin, 1978. N 1. Pp. 122-140.
- Groot C. The interaction of cognition and motivation in performance on test of field dependence-independence // Human assessment: Cognition and Motivation. Athens, 1984. Рp. 217-230.
- Vasilyev L.G. A cognitive style parameter of argumentation // Proceedings of the 8th Conference of the International Society for the Study of Argumentation 2014. Amsterdam: SicSat, 2014. Рp. 1445-1450.
- Wooldridge B., Haimes-Bartolf M. The field dependence/field independence // Learning styles: implications for adult student diversity, outcomes assessment and accountability. New York: Nova Science Publishers, 2006. Рp. 237-257.
- Yu Cao. Effects of field dependent/independent cognitive styles and cueing strategies on students' recall and comprehension [Dissertation]. Blacksburg; Virginia Polytechnic Institute, September 6, 2006. 152 p.