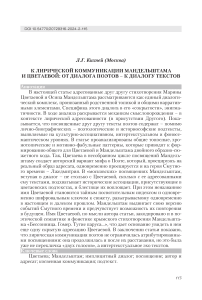К лирической коммуникации Мандельштама и Цветаевой: от диалога поэтов - к диалогу текстов
Автор: Кихней Л.Г.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература и литература народов России
Статья в выпуске: 2 (69), 2024 года.
Бесплатный доступ
В настоящей статье адресованные друг другу стихотворения Марины Цветаевой и Осипа Мандельштама рассматриваются как единый диалогический комплекс, пронизанный родственной топикой и общими нарративными элементами. Специфика этого диалога в его «сокрытости», энигматичности. В ходе анализа раскрывается механизм смыслопорождения - в контексте лирической адресованности (в присутствии Другого). Показывается, что посвященные друг другу тексты поэтов содержат - помимо лично-биографических - поэтологические и историософские подтексты, выявляемые на культурно-ассоциативном, интертекстуальном и фоносемантическом уровнях. В статье проанализированы общие топосные, хронотопические и мотивно-фабульные паттерны, которые приводят к формированию общего для Цветаевой и Мандельштама двойного образно-сюжетного кода. Так, Цветаева в несобранном цикле посвящений Мандельштаму создает авторский вариант мифа о Поэте, который, проецируясь на реальный образ адресата, одновременно проецируется и на героя Смутного времени - Лжедмитрия. В «московских» посвящениях Мандельштам, вступая в диалог - не столько с Цветаевой, сколько с ее адресованными ему текстами, подхватывает исторические ассоциации, присутствующие в цветаевских подтекстах, и блестяще их воплощает. При этом неназванное имя Цветаевой становится тайным посвятительным индексом и одновременно шифровальным ключом к сюжету, разыгрываемому одновременно в настоящем и далеком прошлом. Мандельштам выдвигает свою версию событий Смутного времени и предчувствует возможность их повторения в будущем. Имя Цветаевой, по мысли автора статьи, закодировано и в поэтической семантике и фонетике крымского стихотворения Мандельштама «Бессонница. Гомер. Тугие паруса.», что дает основание увидеть в нем еще одну скрытую адресацию Цветаевой. В заключении статьи показано, что лирическая коммуникация поэтов не ограничилась атрибутированными посвящениями: она продолжилась и после их расставания, но это была уже не перекличка «двух голосов», а интертекстуальное эхо текстов.
Цветаева, мандельштам, имплицитный диалог, посвящение, автор и адресат, косвенная коммуникация, подтекст
Короткий адрес: https://sciup.org/149146241
IDR: 149146241 | DOI: 10.54770/20729316-2024-2-115
Текст научной статьи К лирической коммуникации Мандельштама и Цветаевой: от диалога поэтов - к диалогу текстов
Tsvetaeva; Mandelshtam; implicit dialogue; dedication; author and addressee; indirect communication; subtext.
Начнем с того, что эксплицитного диалога, то есть открытого, демаскированного обмена посланиями с полноименными или инициальными посвятительными индексами (как это было принято, например, у романтиков и символистов (см.: [Кихней, Ламзина 2022, 38–56]) у Мандельштама и Цветаевой не было. Известны и достаточно обстоятельно прокомментированы встречи и стихотворные посвящения 1916 г., отражающие романтические отношения поэтов [Саакянц 1986, 88–101; Швейцер 1988, 155–176; Витт 1997, 24–48; Гаспаров 2001, 628–629; Кудрова 2002, 141– 146, Мец 2009, 553–556, 682–683].
Перу Цветаевой принадлежат по крайней мере семь стихотворений, посвященных Мандельштаму (см.: [Саакянц, Мнухина 1994, 600], а именно: «Никто ничего не отнял…», «Собирая любимых в путь…», «Ты запрокидываешь голову…», «Откуда такая нежность?..», «Разлетелось в серебряные дребезги…», «Гибель от женщины – вот знак…», «Приключилась с ним странная хворь…».
В «Истории одного посвящения» сама Цветаева вспоминала «о чудесных днях с февраля по июнь 1916», когда она Мандельштаму «дарила Москву» [Цветаева 1994–1995, IV, 156]. В ее цикле стихов о Москве есть два стихотворения («Из рук моих – нерукотворный град…» и «Мимо ночных башен…»), в которых поэтесса прямо обращается к Мандельштаму, хотя и не называет его по имени.
Первая специфическая черта этих посвящений в том, что Цветаева, обращаясь к возлюбленному, помнит, что он – ее собрат по поэтическому цеху. Более того, она одним росчерком пера показывает разницу их поэтик, отличие его неоклассицистической манеры, от ее стихийного неоромантического стиля:
…Что вам, молодой Державин,
Мой невоспитанный стих!
[Цветаева 1994–1995, I, 252].
Примечательно, что и через двадцать лет поэтесса в эссе «Поэт-альпинист» подкрепит классицистическую генеалогию Мандельштама – утверждением, что на его поэзии лежит «след десницы» Державина [Цветаева 1994–1995, V, 440].
Вторая важная особенность цветаевских посвящений нам видится в ипостазировании образа адресата. С одной стороны, этот образ узнаваем, биографичен, вписан в февральско-мартовскую Москву 1916 г. (ср.: «Какого спутника веселого / Прислал мне нынешний февраль» [Цветаева 1994– 1995, I, 253]). С другой стороны, в посвящениях отразилась одна из первых попыток Цветаевой запечатлеть архетипические черты поэта вообще .
Посвящения изобилуют узнаваемыми деталями мандельштамовского портрета. Ср.: «Ты запрокидываешь голову…», «Чьи руки бережные нежили / Твои ресницы...», «Не первые – эти кудри / Разглаживаю…», «Ах, запрокинута твоя голова, / Полузакрыты глаза…» [Цветаева 1994–1995, I, 253, 254, 259].
Те же особенности облика молодого Мандельштама отмечали современники. Так, Ахматова в «Листках из дневника» запечатлевает его «высоко закинутую голову» и «ресницы в полщеки» [Ахматова 2005, 100]. С. Маковский также упоминает об «откинутой назад» голове, а еще о «мелко-мелко вьющихся» «пушистых рыжеватых» волосах и «птичьей» подпрыгивающей походке [Маковский 1991, 188]. Птичьи сравнения возникают и у Анастасии Цветаевой. «Горбатость носа, – пишет она, – давала ему что-то орлиное. И была в нем грация принца в изгнании. И была жалобность брошенного птенца» [Цветаева 1984, 557].
Птичьи ассоциации присутствуют и в цветаевских посвящениях. Они становятся орудийными средствами воплощения в живом облике адресата авторского мифа о Поэте как существе не земной, а, скорее, небесной, серафической породы. Ср.: «Лети, молодой орел», «Серафим! – Орленок!», «Лебеденок! Хорошо ли тебе лететь?». Заметим попутно, что эта ассоциативная парадигма будет продолжена и доведена до «ангельского» чина в «Стихах к Блоку».
Таким образом, ипостазирование адресата связано с попыткой определения сущности такого явления, как поэт , которая, на наш взгляд, впервые предпринимается именно в этих стихах, а далее продолжится в циклах посланий Блоку и Ахматовой, Маяковскому, отражающих разные грани и духовные измерения поэта, и завершится в «Стихах к Пушкину».
Для Цветаевой поэт по своему величию – царствен, по своей сути – бунтарь, смутьян. Поэтому его судьба – в цветаевской онтологии – всегда трагична. Царственность адресата (несомненно, восходящая к пушкинскому: «Ты – царь») в адресациях к Мандельштаму изначально спрятана в подтекст, трагические же ноты обнаруживаются практически сразу. В первом же обращенном к Мандельштаму стихотворении «Никто ничего не отнял!..» сквозь нежную тональность прощания перед предстоящей разлукой вдруг проступает предчувствие крестного пути адресата, – и… лирическая героиня / Цветаева благословляет этот путь (ср.: «На страшный полет крещу вас…» [Цветаева 1994–1995, I, 252].
Профетическая тональность еще более усиливается в стихотворении «Гибель от женщины. Вот знак…». Откуда в мадригальных посвящениях Цветаевой эти трагически-пророческие ноты? Резонно следующее объяснение: поэту как существу бунтарской этиологии и ангельской природы трудно ужиться в мире дольнем: отсюда мотив обреченности на смерть.
Провиденциальная интенция этих стихов получает новое обоснование, если увидеть в несобранном цикле посвященных Мандельштаму стихов потаенный сюжет, связанный с Москвой Смутного времени, Лжедмитрием и Мариной Мнишек.
Мы полагаем, что у Цветаевой изначально возникают параллели: она – Марина Мнишек; Мандельштам – Дмитрий Самозванец. Ведь именно эти исторические герои в московском топосе воплощают семантику царственности и одновременно крамолы. Параллель Цветаева – Мнишек мотивируется тождеством имен и памятью о собственных польских корнях (бабушка, М.Л. Бернацкая, принадлежала к польскому аристократическому роду). Параллель Мандельштам – Самозванец мотивируется причастностью Мандельштама, родившегося в Варшаве, к Польше, а также некоторым портретным сходством. Так, Осип (вспомним описание С. Маковского!) был рыжеват и кудреват. А вот характеристика Самозванца, данная В.О. Ключевским: «Молодой человек, роста ниже среднего, некрасивый, рыжеватый, неловкий, с грустно-задумчивым выражением лица, он в сво- ей наружности вовсе не отражал своей духовной природы: богато одаренный, с бойким умом, <…> с живым, даже пылким темпераментом» [Ключевский 1988, 30–31]). Важно, что и сама Цветаева, судя по стихотворению 1917 г. «Когда рыжеволосый самозванец…», хорошо знала исторический облик Самозванца, равно как и историю его возвышения и падения.
Итак, указанные параллели подспудно присутствуют уже в первых цветаевских посвящениях Мандельштаму: адресант и адресат неуловимо начинают двоиться. Так, в стихотворении «Ты запрокидываешь голову…» Цветаева называет себя и спутника «торжественными чужестранцами», проходящими «городом родным», что проецируется на «чужеродность» Марины Мнишек и Лжедмитрия, приехавших покорять Москву.
Далее. Лирическая героиня спрашивает спутника: «…по каким тер-новалежиям / Лавровая тебя верста…», – и тут же обрывает себя. Речь здесь, скорее всего, идет о скитаниях и лишениях на пути к царствованию Дмитрия – то ли царевича, то ли Самозванца… (к идентификации героя вернемся позже). Этот вопрос отнести к Мандельштаму можно с большой натяжкой, ибо ни о каких «терновалежиях» в более или менее благополучной жизни поэта до 1916 г. не было и речи. Стало быть, лирическая героиня также ипостазирована: это и Цветаева, и Марина Мнишек. В финальных строфах эта двойственность героев проступает еще определеннее:
В тебе божественного мальчика, – Десятилетнего я чту.
Помедлим у реки, полощущей Цветные бусы фонарей.
Я доведу тебя до площади Видавшей отроков-царей. [Цветаева 1994–1995, I, 254].
Начинает двоится также и образ лирической героини. Так, в стихотворении «Еще и еще песни…» (которое, по нашему мнению, также следует причислить к имплицитным посвящениям Мандельштаму) возникают спорадические отсылки к «апокалипсическим» эпизодам Смутного времени (в том числе и о «воскрешении» царевича Дмитрия!) – как бы отраженным в экстатических восклицаниях Марины Мнишек: «Мне солнце горит – в полночь! <…> Мне мертвый восстал из праха! / Мне страшный свершился суд! / Под рев колоколов на плаху / Архангелы меня ведут» [Цветаева 1994–1995, I, 257]. Косвенная адресация Мандельштаму просматривается в аллюзиях на его эсхатологические мотивы (в частности, на «черное солнце») в стихах 1915 – начала 1916 г.
В следующем стихотворении, уже явно атрибутированном как посвящение Мандельштаму, мы видим одну из трагических кульминаций сюжета Смутного времени. Цветаева имитирует сцену гадания – предостережение вещуньи Лжедмитрию:
Гибель от женщины. Вот знак На ладони твоей, юноша.
Долу глаза! Молись! Берегись! Враг Бдит в полуночи.
[Цветаева 1994–1995, I, 258].
Есть большой соблазн прочитать это стихотворение как визионерское прозрение трагической участи Мандельштама. Возможно, поэти-чески-женственная интуиция Цветаевой уловила в адресате нечто («ретивость»? «упрямство»?), что предопределило его будущий конфликт с внешним миром (ср.: «Не спасет ни песен Небесный дар, / Ни надменнейший вырез губ…» [Цветаева 1994–1995, I, 258]).
Но не забудем об исторической оптике истолкования этого текста. В таком случае «гибель от женщины» – отсылка к роковой роли Марины Мнишек в судьбе Самозванца. Предостережение «Враг / Бдит в полуночи» – намек на боярский заговор против него (возглавленный Василием Шуйским).
И далее следует предсказание трагического конца, содержащее конкретные исторические детали: Дмитрия Самозванца, выпрыгнувшего в окно в попытке спасения, действительно взяли «голыми руками»:
Ах, запрокинута твоя голова, Полузакрыты глаза – что? – пряча. Ах, запрокинется твоя голова – Иначе.
Голыми руками возьмут – ретив, упрям! – Криком твоим всю ночь будет край звонок! Растреплют крылья твои по всем четырем ветрам, Серафим! – Орленок! – [Цветаева 1994–1995, I, 259]
Предпоследний стих – двойная отсылка к Лжедмитрию. По одной из исторических версий – принятой кстати, Пушкиным (см. его трагедию «Борис Годунов»), – подлинное имя Лжедмитрия – Григорий Отрепьев. Цветаева в стихотворении 1917 г. – «Гришка-вор тебя не ополячил…» – называет это имя. В таком случае, в предпоследнем стихе не случайно возникает корневое сходство: рас-треплют = О-трепьев , подкрепленное анафонической гомологией (ср.: рас треп лют… кры лья… че тыр ем в етр ам), отражающей звуковой ореол фамилии и (отчасти) имени Самозванца. Кроме того, предпоследний стих – намек на посмертное развеивание его праха. Именно так описывает П.Н. Краснов гибель Лжедмитрия в «Очерках истории Войска Донского»: «Вооруженная толпа 17-го мая 1606 года ворвалась в Кремль, растерзала Лже-димитрия и прах его развеяла по четырем ветрам » (курсив наш. – Л.К. ) [Краснов 2007].
Эта двойная оптика – отражения в адресате царевича Дмитрия, а в лирической героине-авторе – Марины Мнишек – передалась и Мандельштаму, что в полной мере воплотилось во втором из его «московских» посвящений.
***
Всего мандельштамовских посвящений Цветаевой, по единодушному мнению комментаторов [Гаспаров 2001, 628; Мец 2009, 553], три – «В разноголосице девического хора…», «На розвальнях, уложенных соломой…», «Не веря воскресенья чуду…». Примечательно, что их коммуникативная интенция еще более завуалирована, чем у Цветаевой.
Особенно это относится к двум «московским» посвящениям, поводом и темой которых послужили все те же совместные прогулки по Москве, воспетые Цветаевой. Но у Мандельштама эти прогулки историософски преображаются.
Стихотворение «В разноголосице девического хора…», посвященное Московскому кремлю, достаточно подробно прокомментировано, в частности, О. Роненом [Ронен 1991, 13–14]. Примечательно, что этот текст мог бы украсить архитектурную подборку Мандельштама, встав в один ряд с такими стихотворениями, как «Notre Dame», «Айя София», «На площадь выбежав, свободен…», в пространстве которых поэт дает еще и историю их создания. И в подтексте «Разноголосицы…» также спрятана мысль о генезисе описываемого автором Успенского собора, о его русско-итальянской родословной. Известно, что итальянский архитектор А. Фиораванти, построивший этот собор, опирался на опыт русских зодчих, строителей Успенского храма во Владимире.
Однако нетрудно заметить, что сквозь архитектурную образность проступают женственные черты, ассоциируемые с обликом спутницы Мандельштама: «И в дугах каменных Успенского собора / Мне брови чудятся, высокие, дугой. / <…> И пятиглавые московские соборы / С их итальянскою и русскою душой / Напоминают мне явление Авроры, / Но с русским именем и в шубке меховой» [Мандельштам 2009, 295]. Имя адресата, как указал О. Ронен [Ронен 1991, 13], зашифровано в топониме Флоренция (в переводе – цветущая), отсылающем к генеалогии этого храма: «Успенье нежное – Флоренция в Москве» [Мандельштам 2009, 295].
Аналогичный прием кодирования адресата использован и во втором «московском» посвящении – «На розвальнях, уложенных соломой…». Но в нем Мандельштам усложняет шифровку. Исторические эпохи здесь начинают двоиться, время слоится: прошлое проступает сквозь настоящее, раздвигая границы последнего. Прогулки по городским улицам оборачиваются путешествием в прошлое: герои «проваливаются» в Москву Смутного времени, конца XVI – начала XVII вв. И если учесть подтексты цветаевских посвящений, прокомментированные нами выше, то «На розвальнях…» закономерно воспринимается как коннотативный ответ адресату, включение в тайный диалог текстов.
Что же касается внешней коммуникации Мандельштама – с читателем, то представляется следующее. Поэт, расставляя определенные знаки внутри строфы, как бы предлагает читателю собрать их в смысловое целое – по собственному разумению. Так, если читатель, ориентируясь на современность, знает, что спутницу героя-адресанта зовут Марина, то этот антропоним для него станет ключом к историческому измерению стихотворения, воссоздающему драматическую картину Московской Смуты.
Если же читатель, изначально сориентированный на события Смутного времени, догадается, благодаря разбросанным по тексту образам-индексам (Углич, царевич, Рим, дети, играющие в бабки), что герои стихотворения – Дмитрий Самозванец и Марина Мнишек, то обратным ходом он расшифрует, что неназванная спутница Мандельштама – Марина Цветаева. В обоих случаях образ и имя Цветаевой вызывают аналогию с Мариной Мнишек, а лирическое «я» соответственно ассоциируется с Дмитрием Самозванцем, что в корне трансформирует стихотворную фабулу.
Прогулка по Москве Мандельштама и Цветаевой оборачивается роковым путешествием их лирических двойников («меня везут без шапки», «связанные руки затекли»). Образ Самозванца, которого везут на казнь, ассоциативно (опять-таки по смежности имен) притягивает к себе другой сюжет Смутного времени: «А в Угличе играют дети в бабки…». Эта ассоциация в смысловом конструировании текста выполняет двойную функцию. Во-первых, отсылка к угличевскому топосу объясняет причину возникновения феномена Лжедмитрия. А во-вторых, топоним Углич в сочетании с мотивом игры детей в бабки – прямая отсылка к темной и таинственной смерти малолетнего царевича Дмитрия, который был убит (а по официальной версии умер, поранив себя ножичком во время игры в свайку или кичку) в 1591 г.
М.Л. Гаспаров, комментируя это стихотворение, пишет: «…по Москве везут то ли убитого в Угличе Димитрия на погребение, то ли связанного Лжедимитрия на казнь» [Гаспаров 2001, 629]. Но первое предположение грешит логической неточностью: если везут мертвого царевича Дмитрия, то как у него могут затечь «связанные руки» и «страшно» онеметь тело? И в целом его идентификация с лирическим героем (alter ego автора) и его спутницей (ср.: « мы ехали…», « меня везут…») вызывает сомнение.
В финале стихотворения содержится намек на иное авторское истолкование исторических событий того времени. Обратим внимание, что Мандельштам пишет: « Царевича везут…» [Мандельштам 2009, 92]. Мы полагаем, что Мандельштаму была известна версия о том, что человек, которого историки называют Лжедмитрием, на самом деле был царевичем Дмитрием. В частности, эту версию выдвигал такой крупнейший историк, как Н.И. Костомаров, который полагал, что царевича Дмитрия «легче было спасти, чем подделать» [Костомаров 1864, 60]. Вместо него во время покушения погиб другой мальчик, в то время как царевича спасли и тайно переправили в Польшу. Этот слух, по мнению В.О. Ключевского, и стал причиной Смуты: «Теперь (в 1604 г. – Л.К.) разнеслась громкая весть, что агенты Годунова промахнулись в Угличе, зарезали подставного ребенка, а настоящий царевич жив и идет из Литвы добывать прародительский престол. Замутились при этих слухах умы у русских людей, и пошла Смута»
[Ключевский 1988, 26]. Версию о спасении царевича разделяли в конце XIX – в начале ХХ в. такие историки, как А.С. Суворин [Суворин 1906] и К.Н. Бестужев-Рюмин [Бестужев-Рюмин 1898].
В таком случае получается, что «на розвальнях <…> везут» именно царевича Дмитрия, вспоминающего об угличевском детстве и покушении на него во время игры. Парадокс в том, что его, истинного царевича, уже объявили Лжедмитрием, и вскоре «худые мужики и злые бабы» [Мандельштам 2009, 92] свершат над ним самосуд.
Предлагаемое прочтение не только восстанавливает логику лирического сюжета, но и усугубляет профетический трагизм стихотворения, как бы предсказывающего насильственную смерть через два с половиной года другого царственного отрока и всей императорской семьи.
Через ассоциативную сцепку образов в стихотворении сгущается тревожная атмосфера московской Смуты и кристаллизуется мотив неминуемой гибели. Московская тема, в свою очередь, связана с мессианской концепцией России.
Русскую историю (и – одновременно – свой роман с Цветаевой) Мандельштам осмысливает в духе соловьевской триады («три свечи», «три встречи»). Подспудно в стихотворении вырастает образ Москвы – третьего Рима, коррелирующий с сформированной в XVI в. концепцией переноса «центра мира» в столицу Русского государства (ср. с формулировкой старца Филофея: «Москва – третий Рим, а четвертому не бывать!»). Но Мандельштам берет от этой формулировки синтаксический каркас и со-полагает его с римской семантикой: «Четвертой не бывать! А Рим далече / И никогда он Рима не любил» [Мандельштам 2009, 92]. То есть, по сути дела, в третьей строфе речь идет не о трех Римах, а о трех встречах, имеющих явную биографическую подоплеку (встреча в Коктебеле летом 1915 г., в Петрограде зимой 1915/16 и в Москве в феврале 1916-го). Та же тройственность проецируется и на «встречи» Лжедмитрия с Мариной Мнишек, и – шире – на его взаимоотношения с католицизмом и папством.
Мандельштам имитирует в этом стихотворении механизм развертывания стихотворной ткани посредством сцепления образных ассоциаций, то всплывающих из подсознания, то снова уходящих в него. Любопытное подтверждение этого – финальный образ «рыжей соломы», казалось бы, относящейся к розвальням. Вместе с тем этот образ в сочетании с мотивом «поджога» склубляется в картину посмертной расправы над Дмитрием / Лжедмитрием. Во-первых, Самозванец, по свидетельству историков (см. выше ссылку на Ключевского) был рыжеволосым. И, во-вторых, тело его сожгли и, «смешав пепел с порохом, выстрелили им из пушки в ту сторону, откуда Самозванец пришел в Москву с великолепием! Ветер развеял бренные остатки» [Карамзин 2009, XI, IV].
Если вернуться в Москву 1916 г., то можно ощутить за всеми этими ассоциативными планами экзистенциальную тревогу автора, его предчувствие будущей, еще большей, смуты в России. Мандельштам предугадывает, что надвигающаяся смута грозит гибелью лично ему. На это указывает амбивалентная игра с субъектно-объектной идентификацией героя: «меня везут» / «царевича везут». На это указывает и ранняя редакция первого стиха, в котором вместо эпитета «уложенных» было: «осыпанных». «Осыпанных» – содержит почти точный фонетический абрис имени автора. Случайность ли это? Если вспомнить привязанность Мандельштама к фоносемантическим играм с собственным именем [Кихней 2016, 223–237], то можно предположить, что выбор эпитета – тоже своего рода криптограмма… Однако стилистически этот вариант не устроил Цветаеву, и она предложила замену эпитета, который и был канонизирован.
Мотив «смуты» атрибутирует еще одно «косвенное» посвящение Мандельштама, также написанное под впечатлением прогулок с Цветаевой по Москве. Мы имеем в виду стихотворение «О, этот воздух, смутой пьяный…», в котором, во-первых, феномен смуты (соединенной с русским дионисийством), обретает имя (ведь в стихотворении «На розвальнях…» это понятие не называлось); во-вторых, ощущение надвигающейся смуты переносится в современность: «Качают шаткий “мир” смутьяны».
Цветаева откликнулась на это мандельштамовское посвящение стихотворением «Дмитрий! Марина! В мире…». Вполне вероятно, что оба текста создавались синхронно, поскольку тема эта, судя по рассмотренным выше обоюдным посвящениям, очевидно, была предметом бесед и вытекающей из них лирической рефлексии обоих поэтов. Синхронность подтверждается авторскими датировками: под стихотворением Цветаевой стоит пометка: 29, 30 марта 1916 г. [Цветаева 1994–1995, I, 267]; первая редакция «На розвальнях, уложенных соломой…» датируется мартом того же года [Мец 2009, 553].
Мы видим, что Цветаева поддерживает и конкретизирует версию Мандельштама о подлинности Дмитрия. Так, она воспроизводит ситуацию «узнавания» царицей-инокиней Марфой в Самозванце своего сына. Ср.: «Сама инокиня / Признала сына! / Как же ты – для нас не тот!» [Цветаева 1994–1995, I, 266].
Имплицитный диалог текстов проявляется и в перекличке других образов, ср., например, у Мандельштама: «И теплятся в часовне три свечи» [Мандельштам 2009, 91], и у Цветаевой: «За вас в соборе Архангельском / Большая свеча горит» [Цветаева 1994–1995, I, 267]. А главное, Цветаева выводит на поверхность скрытое у Мандельштама отождествление ее имени с именем Мнишек: «Марина! Царица – Царю / <…>. Во славу твою грешу / Царским грехом гордыни. / Славное твое имя / Славно ношу» [Цветаева 1994–1995, I, 267].
***
Последняя романтическая встреча двух поэтов, как вспоминает сама Цветаева, состоялась в июне 1916 г., когда, приехав к ней в Александров, Мандельштам внезапно сорвался оттуда в Коктебель, где он пишет последнее адресованное ей стихотворение – «Не веря воскресенья чуду…», знаменующее конец их романа. После отъезда за границу Цветаева и Мандельштам не переписывались. Но в 1931 г. Цветаева (в ответ на недостоверные мемуары Г. Иванова) пишет эссе «История одного посвящения», в котором воссоздает обаятельный, немного чудаковатый образ поэта, вспоминает его последний приезд и комментирует упомянутое посвящение.
Выдвинем версию, что Мандельштам познакомился с этим текстом, более того: откликнулся на него в стихах. Эссе Цветаевой мог передать поэту – через Н.Я. Мандельштам (несколько раз приезжавшую из Воронежа в Москву в 1935 г.) – И. Эренбург. Он, как известно, дружил с обоими поэтами и в 1920–30-х гг. привозил из Парижа в Москву произведения Цветаевой. М. Белкина, описывая собранные к концу 1930-х гг. А.К. Тарасенковым произведения Цветаевой (в основном, перепечатанные на машинке), пишет, что их «везли Эренбург, Екатерина Павловна Пешкова, знакомые, знакомые знакомых» [Белкина 2008, 36], и далее упоминает в этом собрании Тарасенкова «Историю одного посвящения» [Белкина 2008, 40].
Однако наше доказательство основано не только на означенной вероятности передачи цветаевского эссе его главному персонажу, но и на текстовых совпадениях и параллелях. В «Истории одного посвящения» есть воспоминание, вызванное финальными строками стихотворения «Не веря воскресенья чуду…» («Прими ж ладонями моими / Пересыпаемый песок» [Мандельштам 2009, 93]). Цветаева вспоминает о том, как она, перебирая на коктебельском берегу «не песок даже, радужные камешки» [Цветаева 1994–1995, IV, 149], говорит Волошину, что выйдет замуж только за того, кто угадает, что ее любимый камень – сердолик. На что Волошин иронически замечает: «Марина! (Вкрадчивый голос Макса) – влюбленные, как тебе может быть уже известно, – глупеют. И когда тот, кого ты полюбишь, принесет тебе (сладчайшим голосом)… булыжник, ты совершенно искренне поверишь, что это твой любимый камень!» [Цветаева 1994–1995, IV, 149].
У Мандельштама в «Воронежских тетрадях» находим стихотворение, в котором воспроизводится та же ситуация перебирания коктебельских камешков:
…В опале предо мной лежат Морского лета земляники – Двуискренние сердолики… [Мандельштам 2009, 207].
Однако Мандельштам отдает предпочтение булыжнику, а не милому сердцу Цветаевой сердолику или агату:
Но мне милей простой солдат Морской пучины – серый, дикий, Которому никто не рад. [Мандельштам 2009, 207].
Трудно представить, что это стихотворение возникло вне контекста мысленного диалога с Цветаевой после прочтения ее эссе.
Вместе с тем и в цветаевских стихах после окончания романа слышится долгое эхо посвящений Мандельштама. Это эхо помогает распознать первую, скрытую и, возможно, подсознательную адресацию поэта Марине Цветаевой в их первую коктебельскую встречу.
Мы имеем в виду стихотворение «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», написанное Мандельштамом летом 1916 г. и знаменующее, по нашей версии, первый импульс любовного влечения, некое предчувствие любви, осознание ее властной силы.
При внимательном чтении в этом стихотворении можно заметить зашифрованное в тексте имя Цветаевой, его не столько анаграмматические, сколько криптографические индексы, рассыпанные по второй и третьей строфах. Анафоническое родство Гомера и моря подтверждается косвенным их восхождением к неназванной, а, точнее, переведенной (с итальянского) лексеме amore : «И море, и Гомер – всё движется любовью» [Мандельштам 2009, 84]. Любовь / amore (итал.) / amor (лат.) – их общий «корень» (tertium comparationis) и одновременно их общая движущая сила. Итальянский язык возник здесь не случайно: Мандельштам в то время в Коктебеле, по свидетельству очевидцев, читал Данте [Dante Alighieri 1890], заимствованного в библиотеке М. Волошина.
Любовь, как «третье соeдиняющее» и «сокрытый двигатель» моря и Гомера, – отсылка к финалу «Божественной комедии», однако не к оригиналу, ибо в оригинале в последней терцине (ср.: «Aquel que mueve el sol y las» [Dante Alighieri 1890, 582]) речь идет Боге, буквально о «Том, кто движет солнцем и звездами» (перевод наш. – Л.К. ), а вовсе не о любви. Предположительно, Мандельштам обратился к переводу Д. Минаева, у которого, как и впоследствии у М. Лозинского, Тот (то есть Бог) переводится как Любовь (ср.: «…Тогда мои желания и волю / Я отдал произволу той любви, / Которой солнце движется и звезды» [Данте 1879, 305]).
Мандельштам переиначивает эту цитату: у него любовью движется «и море, и Гомер». Почему Гомер «движется любовью» – понятно, это отсылка к причине и завязке троянской войны. Но почему – море ? Дело в том, что на перекрестье этих повторяющихся в тексте лексем – моря и Гомера – возникает анафонический звукообраз – Марина . Подчеркнем, что здесь имеет место не анаграмма, а именно анафония, то есть такая «форма звуковой организации, при которой звуковой состав того или иного слова-темы воспроизводится в тексте не полностью» [Пузырев 1995, 20].
Вместе с тем перед нами одновременно и криптограмма, поскольку звуковой состав слова-темы «Марина» имплицирован, и для его дешифровки необходимы экстралингвистические сведения. Таковыми в данном случае является не только потенциальная адресация к Цветаевой, но и само происхождение ее имени: древнеримское Марина в переводе с латинского, как известно, – «морская». Но не всем известно, что это имя этимологически связано с постоянным эпитетом Венеры: Venus Marinа (см.: [Никонов 1988, 81–82]).
И поскольку Марина – одно из имен античной богини любви (Венеры / Афродиты), то понятно, почему не только Гомер, но и море «движется любовью». Кроме того, расшифровка этой ономастической криптограммы объясняет, почему в «Бессоннице…» «на головах мужей божественная пена». Это, конечно, та морская пена, из которой родилась богиня любви, по чьей воле «ахейские мужи» плывут «в чужие рубежи».
Имеет ли здесь место бессознательная шифровка имени Цветаевой, или же автор намеренно создает криптографический текст, имплицирующий его зарождающее чувство? Трудно дать однозначный ответ на этот вопрос… Во всяком случае, когда Мандельштам в заключительном посвящении Цветаевой пишет: «Нам остается только имя…» [Мандельштам 2009, 93], то становится понятным, что имя для него – и есть тот пропуск в вечность (в вечность памяти), то «воскресенья чудо», которое без имени невозможно. И соположение мотива имени с мотивом «черного и глухого» моря как бы возвращает нас к стихотворению «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…» – первому (тайному? бессознательному?) посвящению Цветаевой.
Выскажем предположение, что и Цветаева это стихотворение относила на свой счет, о чем свидетельствуют переклички с ним в ее последующей лирике. Так, как бы продолжением «Бессонницы…» предстает стихотворение Цветаевой 1920 г. «Кто создан из камня, кто создан из глины…», в котором она прямо ассоциировала себя с Venus Marina : «…Мне имя – Марина / Я бренная пена морская <…> / В купели морской крещена / <…> Я с каждой волной воскресаю» [Цветаева 1994–1995, I, 534–535].
В другом стихотворении – «Всё круче, всё круче…» (1921) – находим еще одну отсылку к мандельштамовской «Бессоннице…». Ср. у Мандельштама: «…Сей поезд журавлиный <…> / Как журавлиный клин в чужие рубежи…» [Мандельштам 2009, 84], и у Цветаевой: «Как дерево-машет-ря-бина / В разлуку. / Во след журавлиному клину. / Стремит журавлиный…» [Цветаева 1994–1995, II, 26]. У Цветаевой, как и у Мандельштама, этот образ выступает в функции сравнения, причем лексема «журавлиный» повторена дважды.
***
Подводя некоторые итоги нашим наблюдениям, заметим, что особой чертой поэтической коммуникации обоих поэтов является ярко выраженная установка на имплицированность диалога, предполагающая уход общения в иное, более глубокое измерение.
Эта имплицированность по-разному проявляется в поэтике корреспондентов. У Цветаевой завуалированность адресации связана, с одной стороны, с романтическим характером их отношений, а с другой стороны, – с поисками архетипических черт поэта, предполагающих выявление в конкретном и, по сути дела, узнаваемом физическом и духовном облике адресата (с точным вычленением его поэтической генеалогии) общих и одновременно исключительных черт психотипа «поэта вообще», предвидения его трагической судьбы, обусловленной его гениальностью и принадлежностью к сословию поэтов.
По сути дела, Цветаева в своих адресациях творит миф о возлюбленном Поэте, проецируя на него архетипы царя / смутьяна / чужеродца, на перекрестье которых склубляется образ Дмитрия Самозванца. Одновременно поэтесса и на себя примеряет роли возлюбленной, пророчицы, героини Смутного времени – полу-царицы, полу-мятежницы.
У Мандельштама имплицитный характер посвящений определяется иными интенциями. Перед нами разновидность внутреннего диалога, недоговоренности и эллиптические умолчания которого объясняются именно рематическим характером внутренней речи. Думается, что на его адресации можно спроецировать следующее суждение Л.С. Выготского:
«В устной речи возникают эллизии и сокращения тогда, когда подлежащее высказываемого суждения заранее известно обоим собеседникам. Но такое положение – абсолютные и постоянный закон для внутренней речи. Мы всегда знаем, о чем идет речь в нашей внутренней речи. Мы всегда в курсе нашей внутренней ситуации. Тема нашего внутреннего диалога всегда известна нам. Мы знаем, о чем мы думаем. Подлежащее нашего внутреннего суждения всегда наличествует в наших мыслях» [Выготский 1999, 342].
С этим связна черта поздней поэтики Мандельштама, которую он охарактеризовал как мышление «опущенными звеньями». Эта черта, на наш взгляд, начинает проявляться именно в этот период, в частности, в посвящениях М. Цветаевой.
Поэт вырабатывает особую технику, рассчитанную на читательскую эрудицию, ассоциативные и подсознательные механизмы восприятия и памяти, в том числе и исторической. Этот прием позволяет ему расширить и углубить семантический ареал посвящений, каждое из которых превращается в «шкатулку с тройным дном». Прибегая к криптографической манере письма, Мандельштам шифрует образ и имя адресата, которое становится ассоциатом архитектурных или исторических образов. Он подхватывает потаенный цветаевский сюжет, в котором она – Марина Мнишек, а он – царевич Дмитрий. Но главным героем сюжета, разыгранного им, оказывается историческое время – с вплетенными в нее людскими судьбами. Причем конкретное время обретает свойства всевремени, в котором оказываются стянуты, как бы наложены друг на друга разные времена – прошлое и настоящее, сквозь которые проступает архетип одних и тех же «людей и положений».
Самое поразительное, что этот смоделированный поэтом эон станет матрицей и будущего: через два десятилетия Мандельштама, как и царевича Дмитрия (из его стихотворения), повезут со связанными руками через всю Москву в тюрьму. Стихи имеют свойство сбываться…
Знаменательно, что по окончании личных отношений, с завершением романа мы видим, что поэтическая коммуникация не прекращается. Однако мы уже имеем дело не с имплицитным диалогом поэтов, а с имплицитным диалогом текстов, при котором наиболее характерные, знаковые образы из посвящений и металитературных текстов становятся рецептивным материалом для построения своих произведений, оказывающихся своего рода лирическим эхом Другого.
Список литературы К лирической коммуникации Мандельштама и Цветаевой: от диалога поэтов - к диалогу текстов
- Алигьери Д. Божественная комедия / пер. Д. Минаева. Т. 3. Рай. Лейпциг: Издательство М.О. Вольфа, 1879. 320 с.
- Ахматова А. Листки из дневника О Мандельштаме // Ахматова А. Победа над Судьбой. I: Автобиографическая и мемуарная проза. Бег времени. Поэмы. М.: Русский путь, 2005. С. 99-134.
- Бестужев-Рюмин К.Н. Письма Константина Николаевича Бестужева-Рюмина о Смутном времени. СПб.: С.Д. Шереметев, 1898. 80 с.
- Витт С. «Поэты» Марины Цветаевой: Попытка анализа и история одного посвящения // Russica Aboensia 2. День поэзии Марины Цветаевой: Сб. статей. Abo / Turku, 1997. S. 24-48.
- Выготский Л.С. Мышление и речь. М.: Лабиринт, 1999. 352 с.
- Гаспаров М.Л. Комментарии // Мандельштам О. Стихотворения. М.: АСТ; Харьков: Фолио, 2001. С. 604-710.
- Карамзин Н.М. История государства Российского. М.: Эксмо, 2009. 1020 с.
- Кихней Л.Г. Эхо имени: лично-именные анаграммы и криптограммы в поэзии Мандельштама // Русская литература. 2016. № 3. С. 223-237.
- Кихней Л.Г., Ламзина А.В. Стихотворный диалог В. Брюсова и А. Белого: между текстом и жизнью // Язык и культура. 2022. № 60. С. 38-56.
- Ключевский В.О. Курс русской истории. Сочинения: в 9 т. Т. 3. М.: Мысль, 1988. 416 с.
- Костомаров Н.И. Кто был первый Лжедмитрий. СПб.: Типография В. Бе-зобразова и К°, 1864. 63 с.
- Краснов П.Н. История донского казачества. Очерки истории Войска Донского. М.: Яуза; Эксмо, 2007. 576 с.
- Кудрова И. Жизнь Марины Цветаевой до эмиграции. Документальное повествование. СПб.: Звезда, 2002. 312 с.
- Маковский С. Осип Мандельштам // Октябрь. 1991. № 1. С. 188-192.
- Мандельштам О. Полное собрание сочинений и писем: в 3 т. Т. 1. М.: Прогресс-Плеяда, 2009. 808 с.
- Мец А.Г. Комментарии // Мандельштам О. Полное собрание сочинений и писем: в 3 т. Т. 1. М.: Прогресс-Плеяда, 2009. С. 517-735.
- Никонов В.А. Ищем имя. М.: Советская Россия, 1988. 125 с.
- Пузырёв А.В. Анаграммы как явление языка: Опыт системного осмысления. М.: Институт языкознания РАН; Пенза: ПГПУ им. В.Г. Белинского, 1995. 378 с.
- Ронен О. Осип Мандельштам // Литературное обозрение. 1991. № 1. С. 3-18.
- Саакянц А. Марина Цветаева: Страницы жизни и творчества (1910-1922) М.: Советский писатель, 1986. 352 с.
- Саакянц А., Мнухин Л. Комментарии // Цветаева М. Собрание сочинений: в 7 т. Т. 1. М.: Эллис Лак, 1994. С. 494-530.
- Суворин А.С. О Димитрии Самозванце: Критические очерки. СПб.: А.С. Суворин, 1906. 221 с.
- Цветаева А. Воспоминания. М.: Советский писатель, 1984. 767 с.
- Цветаева М. Собрание сочинений: в 7 т. М.: Эллис Лак, 1994-1995.
- Швейцер В. Быт и бытие Марины Цветаевой. Париж: Синтаксис, 1988. 538 с.
- Aligheri D. La divina Comedia di Dante Aligheri. Firenze: G. Barbera, 1890. 604 p.