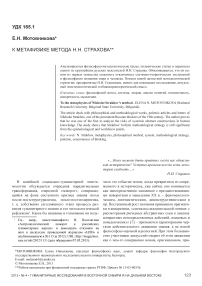К метафизике метода Н. Н. Страхова
Автор: Мотовникова Елена Николаевна
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: Философия. Политология
Статья в выпуске: 4 (24), 2013 года.
Бесплатный доступ
Анализируются философско-методологические труды, полемические статьи и переписка одного из крупнейших русских мыслителей Н.Н. Страхова. Обосновывается, что он одним из первых осмыслил опасность отвлеченных системно-теоретических построений в философском познании мира и человека. Поиски новой целостной методологической стратегии, предпринятые Н.Н. Страховым, имеют, как показывает исследование, актуальный эпистемологический и общемировоззренческий смысл.
Философский метод, система, теория, анализ понятий, полемичность, конкретность мышления
Короткий адрес: https://sciup.org/170175421
IDR: 170175421 | УДК: 165.1
Текст научной статьи К метафизике метода Н. Н. Страхова
В новейшей социально-гуманитарной эпистемологии обсуждается очередная парадигмальная трансформация, очередной «поворот», совершающийся на фоне системного кризиса знания эпохи после-постструктурализма, после-постмодернизма, т. е. собственно сегодняшнего этапа процесса развития гуманитарного знания и его методологической рефлексии1. Ка кое бы название и толкование ни полу-
«…Кому может быть приятно, когда вас объясняют исторически? Уступка времени всегда есть некоторая слабость…»
Н.Н. Страхов чило это событие потом, когда превратится из современного в историческое, уже сейчас оно понимается как непосредственно связанное с предшествовавшими поворотами в мышлении ХХ в. – феноменологическим, лингвистическим, деконструктивистским и пр. Постепенный рост значения принципов прагматики и конкретики, «смена исследовательской оптики: с рассмотрения ригидных абстрактных схем к анализу конкретных непосредственных действий, языковых и поведенческих» [7] – признаются характерными чертами действительного движения знания, а не новой философско-научной идеологией. При этом большинство участников дискуссий говорит об этом движении как о чем-то совершенно новом, оригинальном, при- шедшем в российскую гуманитаристику и постепенно усваиваевымом нами из европейских университетов и западных научных проектов. Наверное, и для такого видения процесса есть серьезные основания, но оно, как минимум, не учитывает существеннейшую черту русской национальной философской традиции, о которой немало уже сказано и написано и для которой анализ конкретных непосредственных действий, частных случаев и их живых последствий принципиально предпочтительнее схематизма теорий, систем и структур. Как писал без малого век тому назад Федор Степун, «в противоположность немецкой философии 19-го века русская мысль представляет собой не цикл замкнутых систем, а цепь вот уже целое столетие не прерывающихся разговоров, причем разговоров, в сущности, на одну и ту же тему» [цит. по: 3].
Традиционный для классических эпох критерий наличия основного трактата, содержащего оригинальную или эпигонскую систему, в XIX в. утратил универсальный характер и на Западе, и в России. Но если в европейской философии бунт против систем стал квалифицироваться как антиклассика, иррационализм и тому подобные определения «поворотного» характера, то для становящейся именно в это время русской философии с самого начала уже дана была альтернативность выбора точки отсчета для дальнейшего развития, что и обусловило повышенный градус конфликтности, борьбы авторитетов, направлений, течений, характеризующий столь краткие по историческим меркам золотой и серебряный «века» нашей национальной культуры. Конечно, искусственное прерывание традиции русской философии в начале ХХ в. не позволило естественному историческому времени проявить истинное соотношение авторитетов и влияний. Но в истории русской философии есть фигуры мыслителей, которые ясно осознавали меру и границы эффективности системного мышления, хотя и были плохо поняты в свое время, в силу иных предпосылок, иного мировоззренческого, экзистенциального самоопределения тогдашнего интеллектуального большинства. К этим основательным, но полузабытым и недочитанным мыслителям относится Николай Николаевич Страхов (1828–1896), важность суждений которого признавали немногие значительные современники – Ап. Григорьев, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, А.М. Бутлеров, Вл. С. Соловьев, В.В. Розанов...
В контексте расстановки мыслителей в иерархии авторитетов самым распространенным в историкофилософских исследованиях стало амбивалентное суждение: Страхов, конечно, глубокий философ – но системы он не создал. Оценка эта является весьма устоявшейся: она появилась в первых статьях о Стра- хове в конце XIX в., прошла через учебники по истории русской философии, выходившие в зарубежных изданиях в веке ХХ (в советской России Страхов числился только второразрядным литературным критиком), и снова подтверждается современными исследователями в наши дни2.
А. Скопинский3: «Кем он был в философии? Создал ли он свою систему? Нет, системы он не создал, да в этом, по нашему мнению, у нас в России пока и надобности нет. У нас требуется, главным образом, верная оценка философских учений, возникающих на Западе и разными путями проникающих к нам. И это – труд не легкий и весьма почтенный, требующий большого философского ума. <…> Философские произведения Страхова … и сводятся главным образом к оценке разных течений современной философской мысли и к определению их действительного значения» [8, с. 430].
А.И. Введенский: «Значит, и у Н.Н. Страхова, как у Сократа, все дело в методах и задачах философии, а не в системе? Значит, и он не создал системы? Увы! И он не создал системы. Но это лишь отчасти зависело от него самого. <… > Увы! Видно, наш черед создавать системы еще не наступил! Да и Бог знает когда, при таких условиях нашей умственной жизни, он наступит?» [1, с. 6–8].
В.В. Зеньковский: «Эта широта и разносторонность трудов Страхова делает его настоящим энциклопедистом, но на творчестве его лежит печать «недоговоренности», как выразился его горячий поклонник В.В. Розанов; отсутствие цельности и незавершенность построений всегда очень мешали должной оценке творчества Страхова, создавали постоянно недоразумения вокруг него» [2, с. 216–217].
Как же сам Н.Н. Страхов относился к проблеме системы?
Прежде всего стоит заметить, что Страхов, посвятивший огромную долю своих умственных занятий анализу и оценке своеобразия российской истории и культуры, в целом ряде работ ставивший задачу развития самобытной русской мысли, никогда не предлагал создавать «системы» русской философии, дополняющих или оппонирующих европейским философским учениям. Более того, везде в его работах, где речь заходит об историко-философском процессе как и о развитии мировой науки, процессы эти мыслятся им и анализируются как общечеловеческие, в которых можно и следует видеть особый вклад и на- циональные черты той или иной школы, отдельного мыслителя, значительной концепции, идеи или понятия и т. п. Показательны в этом смысле «Предисловия» Страхова к двум изданиям его главной книги «Мир как целое» 1872 и 1892 гг. (учтем при этом, что составлено первое издание из работ, написанных еще в конце 50-х–60-е гг.).
«Человек постоянно почему-то враждует против рационализма, и эта вражда упорно ведется всеми: спиритуалистами и материалистами, верующими и скептиками, философами и натуралистами. Отдать себе отчет в этой вражде есть величайшая задача мысли. Так как мы назвали мир целым, то, применяясь к этому выражению, можем сказать, что человек постоянно ищет выхода из этого целого, стремится разорвать связи, соединяющие его с этим миром, порвать свою пуповину. Едва ли когда это было так ясно, как в наше печальное время, время очень интересное, но страшно тяжелое. Люди мечутся, ища выхода, ищут страдания и почитают за стыд быть довольными этою жизнью, как она есть. Самые глупые, спирити-сты, уже переделали мир по-своему и наслаждаются беседами с жителями планет. Другие, политические фанатики, мечтают о том, чтобы переделать человека, изменить ход всеобщей истории. <…> Никто только не думает, что задача должна быть решена теперь и здесь и что всякое перенесение решения в другое время и в другое место есть только обман, которым мы сами себя тешим. Если же кто это и чувствует, то не умеет ни формулировать вопроса, ни приняться за его решение; современное просвещение не дает для этого средств. Так что в настоящее время едва ли не самый мудрый тот, кто, питая некоторое недоверие к Неисследуемому, отказывается от попыток схватить умом роковую задачу и находит удовлетворение в ее практическом решении, то есть в возможном исполнении долга» [11, с. 68–69]. «Наш век хочет познавать, но упорно отказывается мыслить, как будто боясь, что мышление разрушит начала, на которых он строит свою жизнь, и возложит на него слишком трудные задачи и обязанности. <…> Я желаю стоять за одно в моей книге: за философский метод ставить и развивать понятия. В этом методе вся тайна умозрения. <…> Чем точнее и правильнее этот метод прилагается, тем несомненнее озаряется всякий предмет исследования» [11, с. 76].
В этих текстах двух предисловий, разделенных двумя десятилетиями, обращает на себя внимание, кроме единства и философского универсализма мысли, необычайно глубокий уровень эпистемологической рефлексии проблемно желаемого и методически возможного, отчетливое самоограничение в постановке разрешимых задач, характерное для конкретно-научного профессионала. Талант и лю- бознательность, трудолюбие и опыт исследований в естественнонаучной и философской парадигмах позволили Н.Н. Страхову стать выдающимся методологом и философом науки, намного опередившим свое время4. С редкой прямотой и самоотверженностью философ признал невыполнимость сверхзадачи рациональной метафизики – познания «Неисследуемо-го» «в настоящее время», «средствами современного просвещения». Человечество уже выбрало «начала, на которых оно строит свою жизнь», и не хочет и не может переосмысливать эти материалистически-прагматические начала последовательно, вплоть до практических выводов – уже в страховские времена прозвучали сильные критически-пессимистические оценки этих начал, и Страхов был знаком с мыслями Шопенгауэра, Ницше, не говоря уже о Достоевском и Толстом. Что остается в таких условиях мыслящей части человечества? Выполнять свой «долг», совершенствовать и развивать познание в возможных (научных) направлениях и стараться делать это как можно лучше, безошибочнее, методически корректнее, т. е. развивать прежде всего метод. Методологические рассуждения Н.Н. Страхова звучат абсолютно актуально:
«Вообще у ученых и писателей господствует слишком оптимистический взгляд на умственную деятельность. Они уверены, что частная мысль сама найдет свое место в общей сфере, сама определит свои границы, свое отношение к другим мыслям. Между тем тысячи фактов доказывают нам противное. Как люди часто увлекаются и довольствуются словами, забывая об их смысле, так же точно они увлекаются и довольствуются отдельными мыслями, забывая об их связи, об их значении в общей сфере. Под красивыми и звучными словами может не быть искренности и логики; так точно и под ясными и определенными мыслями может не быть истины, не быть действительного понимания предмета. И таков самый обыкновенный случай, особенно с мыслями ученых, которые иногда чем более выигрывают в ясности и определенности, тем больше теряют в глубине и объеме. <...> Вообще можно сказать, что связь между частными мыслями устанавливается силою некоторой более высокой мысли, а не сама собою. Следовательно, если мы желаем внести какое-нибудь согласие в умственный мир, то мы не должны забывать, что люди расположены и способны удовлетворяться отдельными мыслями, и что поэтому они сами не найдут общего связующего взгляда, а нуждаются в том, чтобы он был им дан. Нужно проповедовать необходимость такого взгляда, внушать о нем заботу, искоренять давниш- нюю привычку беспечно предаваться одностороннему направлению, в надежде, что кто-то неизвестный все поправит и согласует» [17, № 47]. Эту заботу о сфере мысли и взял на себя Н.Н. Страхов, эту рациональную истину он решился «проповедовать», в отличие от необеспеченной общезначимыми аргументами истины высшей, духовно-религиозной.
Тема метода в философии Н.Н. Страхова не является исчерпанной, она рассматривалась и продолжает изучаться многими исследователями в аспектах анализа и синтеза, системности и органического развития, применительно к научной и философской предметной и проблемной областям, и т. д.5. Ведущее значение метода в учении Страхова принято всеми его комментаторами, но толкуется весьма разнопла-ново. А.И. Введенский так излагал свое понимание «сократовского» свойства метода Страхова: «Он всегда, прежде всего и больше всего, занят установкой вопроса. Опровергая ложные мнения, отклоняя мысль с ложных путей, он указывает тем самым путь истинный, так сказать, подводит к истине, ставит в надлежащую перспективу, а сам отходит в сторону и как бы говорит: «смотри, рассуждение кончилось, и началось ощущение, видение, – мы вступили в царство живых и конкретных идеалов красоты, блага и святости» [1, с. 5–6].
По-иному важнейший читатель Н.Н. Страхова –
Л.Н. Толстой, – который, будучи сам великим аналитиком, тонко чувствовал все слабости страховской рациональной аргументации, но, в силу общности поколенческих и мировоззренческих идеалов, глубоко и благодарно воспринимал и сочувственно переживал действительные прорывы мысли своего друга. «Вашу книгу [“Об основных понятиях психологии и физиологии” (1886)] я, как получил, так сейчас же стал читать то, что мне было неизвестно и более всего интересно – об организмах, определении их. Нашел много нового и важного. Теперь не вспомню всего, но помню, что меня поразила мысль о том, что главное, опускаемое всегда свойство организма то, что ему не видно ни начала, ни конца, что то, что мы называем организм, есть только одно видимое нами звено, связывающее прошедшее с будущим. Мне дорога эта мысль. Ведь то же и в духовном мире, мире сознания. Меня последнее время особенно поразила мысль, что сознание есть сила в ряду других сил мира. Сила в самом прямом смысле этого слова. Сознание движет другие сознания и приводит в известные положения другие силы, направляет их. <…> Меня главное поразила мысль, что разум, сознание не есть случайное одиночное явление, а что это есть одна из учреждающих сил мира и высшая. Простите за метафизику. Так пришлось. Книгу вашу еще почитаю» [18, c. 408– 409].
Страхов отвечает: «Мне очень досадно, что в книге своей я все-таки не договорил своей мысли. <…> Наша душевная жизнь очевидно вполне сливается с органическою. И та и другая состоят в каком-то непрерывном изменении. <…> Но, в то же время, мысль есть ведь [нечто единое и] то, что, изо всего существующего, обладает наибольшим единством и неиз-меняющимся от времени тожеством. Так и организм – есть нечто сосредоточенное и сохраняющее в себе все прошлое. <…> Я готов сказать, что всякая жизнь непосредственно происходит из Бога, что Бог одинаково растит и мелкую травку, и душу величайшего человека. В этом росте и во всякой жизни соблюдаются известные законы, как соблюдаются неизменно и все законы физические; но это не есть стеснение, а наоборот, пособие и необходимое удобство. Так человек не может подняться до 5-го этажа иначе, как шагая по лестнице, но это не значит, что лестница его стесняет, и нелепо воображать (как думают материалисты), что сама лестница есть причина, поднимающая на высоту. Конец же и цель всякого развития есть Бог, то самое, что есть и его источник. Все это у меня еще не совсем ясно, хотя крайние точки уже стали для меня совершенно незыблемыми. Все из Бога исходит и все к Богу ведет и в Боге завершается. Мы в нем живем и движемся и существуем. Вот, бесценный Лев Нико- лаевич, немножко моей метафизики, и она сходится с Вашею в мысли о господствующем значении сознания. И я думаю, что сознание есть «высшая сила мира» [6, c. 341].
Но так свободно и откровенно непринужденно скептик и строгий рационалист Н.Н. Страхов был «готов сказать» вслух «свою метафизику» только в доверительном личном общении. Идеалы эти были слишком ему дороги, чтобы позволить атеистам и материалистам отрабатывать на них свое публицистическое остроумие. Для журнальных полемик на публике Страхов выбирал темы бесспорной общественной значимости, прежде всего литературные, научные и образовательные, где у него был определенный авторитет и, главное, он точно знал, что сможет ясно и убедительно на уровне здравого смысла ответить на любой вопрос.
В обстановке разномыслия, враждебности между философско-литературными лагерями, просветительски, но антисекуляристски настроенный Н.Н. Страхов занял критически-конструктивную, пожалуй, единственно возможную позицию, позволившую ему сохранять со всеми отношения, но не переходить от компромисса к соглашательству, не уступать в принципиальных вопросах. Н.Н. Страхов стал уклоняться от «проповеди», он стал систематически и целенаправленно спорить. Страховское «оправдание полемики» в сочетании с его учением о самобытности развития человека6 – в исторической ретроспективе – можно считать вполне органично предшествующим позднейшему обоснованию необходимо диалогического характера постижения многомерных, неочевидных истин. Эта предрасположенность может быть усмотрена во множестве фрагментов самых разноплановых статей философа:
«Не всегда следует быть строгим к суждениям людей… Гораздо полезнее и правильнее искать в каждом суждении истинных его поводов, и следовательно, правдивой его стороны. Человек даже мало развитый и проницательный, если судит искренне и добросовестно, все-таки касается какой-нибудь действительной черты обсуждаемого предмета, так что, при надлежащем внимании, можно дать его суждению совершенно здравое истолкование» [10, c. 17–18].
«… Если нужно выяснить какое-нибудь положение, то очень удобно делать это посредством полемики» [15, c. VIII]. «Настоящая полемика есть борьба идей, взглядов … Полемика идей есть дело необходимое и полезное. Как скоро взгляды расходятся, борь- ба между ними неизбежна, и служит ко взаимному уяснению. <…> Первое условие – нужно понимать мысль своего противника. <...> А второе условие подобно первому: нужно понять мысль противника лучше, чем понимает ее сам противник; потому что нужно отвечать на эту мысль, судить ее. Вот это второе условие, из которого вытекает, что истинная полемика есть прогресс, движение мысли вперед, – это условие уже решительно почти нигде не соблюдается» [14].
Решение отказаться от абстрактно-теоретических «подведений» в пользу конкретно-исторического анализа имеет не только опытное, но и идейное обоснование – в полном согласии с концепцией Страхова о первичности умозрения по отношению к эмпирии. Еще в 1862 г. Н.Н. Страхов сформулировал важнейшее философско-методологическое положение о теоретическом схематизме и отвлеченности, кажется, вполне объясняющее, почему от этого философа ждать системы не приходилось:
«Что же такое теория? Что такое отвлеченная мысль? Теория противополагается жизни, отвлеченная мысль – мысли конкретной. <…> Мысли могут быть различны так сказать по направлению своего движения: одна может идти к предмету, другая от предмета. Мысль отвлеченная есть именно та, которая идет от предмета, которая удаляется от него, разрывает с ним связь и доверяется себе самой. Это будет мысль, лишенная живой опоры и потому бледная и сухая, движущаяся одною голою логическою связью. <…> Отвлеченная мысль узка, одностороння, но зато ясна. Ея сила заключается в том самом, что она не нуждается ни в какой опоре и не ищет ее ни в чем постороннем. Ея слабость в том, что она не имеет регулятора, не имеет поверки и поддержки и потому беспрерывно заблуждается. Отвлечение состоит в том, что оно образует общую формулу и верит в нее как в действительность. Поэтому оно приписывает полное равенство всем предметам, подходящим под эту формулу. Поэтому отвлеченная мысль есть всегда мысль равняющая, сглаживающая различия и обесцвечивающая явления. <…> Отвлеченная мысль – это та мысль, которая всюду гонится за результатами, подо всем любит подводить итоги; как бы ни был широк и глубок предмет, она, вместо того чтобы углубляться в него и следовательно самой становиться шире и шире, стремится напротив сузиться, старается стянуть самый предмет в тесный кружок какой-нибудь голой формулы. <...> Теоретик для ясности перелагает стихотворение в прозу, никак не воображая, что содержание поэтического стихотворения всего яснее и точнее выражается именно стихом. Одним словом, мысль теоретика не тяготеет к предмету, а напротив, отвращается от него и уходит в голую отвлечен- ность. <...> Стремление мыслить отвлеченно есть не что иное, как стремление мыслить самостоятельно, стремление к мысли, которая бы опиралась сама на себя и не требовала бы никакой посторонней подставки. Отвлеченная мысль во всяком случае есть мысль независимая, довольствующаяся сама собою» [12].
Приверженец органически толкуемого славянофильства, эстетики и духовного начала жизни, Н.Н. Страхов был сознательным борцом именно против формальнотеоретической экспансии из законной сферы научнотеоретического разума в сферу всеобщего, в сферу свободного духа, в область возможного. Во всех своих полемиках он настойчиво требовал преодоления «воздушности» мышления, конкретно-жизненной постановки и разрешения вопросов. Этому же пытался учить тех, кто спрашивал его совета, рецензии, редактуры. «Вы истинно отвлеченный человек», – писал он В.В. Розанову. – «Это беда. Это та беда, от которой всегда страдало и потеряло свою силу над умами гегельянство. Это – общие формулы, тавтологии, которые сами по себе не содержат познания, а составляют тот огонь, в котором должно очищаться всякое познание» [9, c. 37–38]. «Вообще, Ваши статьи, как и Ваша книга, страдают неопределенностью предмета и неопределенностью метода. О чем идет речь? О какой-нибудь книге? О существующей науке? О господствующем заблуждении? Словом, укажите мне то место, которое Вы хотите занять, тот вопрос, на который хотите отвечать, примкните себя и свою мысль к чему-нибудь конкретному. Иначе Ваши писания не будут ни для кого важны и интересны, и не будут читаться. Потом, если Вы стали рассуждать, – нужно, чтобы виден был Ваш метод, Ваши приемы. Иначе никогда не будет видно, что Вы исчерпываете предмет, что смотрите на него с наилучшей точки зрения. <…> Очень мне грустно было читать Ваши жалобы на невнимание к Вам других; но поставьте себя на место этих других, ведь они тоже имеют право жаловаться на вас» [9, c. 35].
Пример такой конкретизации темы, метода и философских выводов – статья Н.Н. Страхова «О законе сохранения энергии» [12, c. 453–484], которую он вынужденно написал не столько по следам неоконченного спора с А.М. Бутлеровым, сколько актуально откликаясь на раздражавшее его употребление слова «энергия»: не только метафорически Л.Н. Толстой, но и молодые философски и естественнонаучно образованные писатели, признававшие себя учениками Страхова, – В.В. Розанов, Н.Я. Грот и их круг, – стали устойчиво повторять суждения о «психической энергии», о том, «что существует органическая энергия, что движение всего сильнее в начале, что есть сила, называемая целе-сообразность7 …Все это неточно, неправильно выраже- но, все это не имеет ни занимательности парадокса, ни верности точной мысли. И как все длинно и бессвязно. <…> Я истинно огорчен и не знаю, что мне делать» [9, c. 56–57], – негодовал в письме Н.Н. Страхов. Видя неизбежность и неотложность очередной просветительской задачи, Страхов взялся за подробнейшее разъяснение вопроса постановки и развития понятия энергии, научного и философского значения закона сохранения энергии. Получившаяся статья стала не только украшением нового издания книги «Мир как целое», но, гармонично встав в текст, позволяет наглядно лишний раз убедиться в цельности и последовательности развития взглядов и учения самого Н.Н. Страхова на протяжении более тридцати лет.
Новизна и актуальность страховской трактовки философско-научной методологической связки категорий «система – теория – метод» может быть усмотрена в том, что раньше и определеннее многих он выдвинул требование вместо строительства все новых отвлеченных систем развивать конкретное предметно-понятийное знание путем многосторонних, «межпартийных» на языке его эпохи или мультипа-радигмальных, как говорим мы теперь, комплексных исследований. Позиция Страхова очень близка вит-генштейнианскому пониманию задач философии по прояснению понятий в части максимального уточнения логики форм надежных вечных истин о том, что может быть высказано. Дальнейший рост и развитие знания, приращение его происходит через личностное участие в разговорах, через органичное включение в многоголосие: откликнуться каждому на «свою» тему, различить фальшивое и настоящее по камертону красоты, добра и правды, поддержать и укрепить ростки истины своими оригинальными аргументами – и в позднейшие времена постпозитивистская философия не смогла превзойти органическую метафору в рациональном описании и объяснении творческого познания.
Страхов «изощряет вашу мысль и воспитывает ее» [8, c. 9], чтобы «вывести из этой темной глубины хоть понятия «энергии», которая продолжается в языках естественных наук и по сей день, захватывая самые широкие области паранауки и создавая тем самым серьезную проблему современной эпистемологии и философии науки. «Что же, меня тянет куда-нибудь, – разве это не сила ? Если в организм вложена какая-нибудь цель, как в жизнь народа может быть вложена его «судьба», то разве движение ко всему этому не будет «сильным», «преодолевающим все препоны », и тогда эта пробивающаяся к реализации «судьба» или «цель» является движущею силою, – causa efficiens [действующей причиной], совпадающею с causa finalis [конечной причиной (лат.) ]. Тут-то великие определения Аристотеля могли бы для уразумения пригодиться Страхову, который не мог оторваться от «своего единственного» Гегеля. Примечание 1913 года» . [9. c. 56].
что-нибудь к свету ясного сознания» [8, c. 8]. Двоякая установка – на выявление «вечных истин» и «анализ человеческих заблуждений» – фундаментальна для всего творческого пути Н.Н. Страхова, от первых научно-методических и методологических статей до последних неоконченных работ по философии времени, включая статьи по социально-гуманитарной и исторической тематике. «Страхов был чересчур сложен для одних и казался чересчур прост для других» [4, c. 184]. Страхов слишком прост для тех, кто видит у него только консервативное начало, охранительное по отношению к вечным истинам, только строжайшую методичность, безупречную логику вывода, тем более что и сам Страхов оценивал их именно так, настаивал на ограничительных, охранительных задачах. Страхов слишком сложен для тех, кто способен оценить тонкость и глубину проработки страховской логики и диалектики понятий, богатство оттенков смысла и «органических» связей, которые он указывает там, где, на взгляд поверхностный, всё просто и ясно, «всё возможно», – «жители планет», «психическая энергия», «социальное равенство» и т. п. Анализ человеческих заблуждений у Страхова осуществляется как разбор конкретных ходов мысли конкретного автора конкретного текста, тщательно, по-учительски, показывающий превышение обоснованной достигнутым знанием меры свободы суждений. Школьным языком говоря, Страхов доводит анализ ошибки до последней степени ясности данного заблуждения как нарушения одного из основных законов логики – закона достаточного основания в вопросе о «жителях планет», закона тождества в проблеме понимания «силы» и «энергии», закона противоречия – в нигилистских толкованиях понятия справедливости. Когда же Страхов выдвигает задачу продвижения в решении настоящих вечных проблем философии – выработки понятий для правильного выражения соотношения духовного и психического начал человека, пантеизма науки и идеализма религии как форм духовной деятельности людей – мы понимаем, что осторожно-консервативный учитель системно-аналитической методологии в наших глазах превращается в смелого провозвестника самого актуального философского мейнстрима.
Список литературы К метафизике метода Н. Н. Страхова
- Введенский А.И. Общий смысл философии Н.Н. Страхова. М., 1897.
- Зеньковский В.В. История русской философии: в 2 т. Т. 1, ч. 2. Л.: «ЭГО», 1991.
- Кантор В.К. Русский философ в эпоху безумия Разума//Октябрь. 2001. № 6. URL: http://magazines.russ.ru/october/2001/6/rfyn.html (дата обращения: 07.05.2013).
- Левицкий С.А. Н.Н. Страхов (Очерк его философского пути)//Новый журнал. 1958. № 54. С. 164-185.
- Носова Т.В. Проблема метода в философии Н.Н. Страхова//Credo. Оренбург, 1999. № 4. С. 58-64. То же: URL: http://credonew.ru/content/view/143/24/(дата обращения: 07.05.2013).
- Переписка Л.Н. Толстого с Н.Н. Страховым. 1870-1894/Толстовский музей. Том II. С предисл. и примеч. Б.Л. Модзалевского. СПб.: Изд. о-ва Толст. музея, 1914.
- Поселягин Н. Re//Новое литературное обозрение. 2012. № 113. То же: URL: http://magazines.russ.ru/nlo/2012/113/po19.html (дата обращения: 07.05.2013).
- Розанов В.В. Литературные изгнанники. Т. 1. СПб., 1913.
- Розанов В.В. Собрание сочинений. Литературные изгнанники: Н.Н. Страхов. К.Н. Леонтьев/под общ. ред. А.Н. Николюкина. М.: Республика, 2001.
- Страхов Н.Н. Н.А. Добролюбов. По поводу первого тома его сочинений//Время. 1862. № 3. С. 30-54. То же: URL: http://az.lib.ru/s/strahow_n_n/text_0290oldorfo.shtml (дата обращения: 07.05.2013).
- Страхов Н.Н. Некрасов и Полонский//Заря. 1870. Сентябрь. URL: http://az.lib.ru/s/strahow_n_n/text_1870_ nekrasov_i_polonsky_olorfo.shtml (дата обращения: 07.05.2013).
- Страхов Н.Н. Мир как целое/предисловие, комментарий Н.П. Ильина (Мальчевского). М.: Айрис-пресс; Айрис-Дидактика, 2007.
- Страхов Н.Н. Нечто о полемике (Письмо в редакцию «Времени»)//Время. 1861. № 8. С. 69-78. URL: http://az.lib.ru/s/strahow_n_n/text_0240oldorfo.shtml (дата обращения: 07.05.2013).
- Страхов Н.Н. О вечных истинах (Мой спор о спиритизме). СПб.: Тип. бр. Пантелеевых,1887. URL: http://www. bolesmir.ru/index.php?content=text&name=o322 (дата обращения: 07.05.2013).
- Страхов Н.Н. Об основных понятиях психологии и физиологии. СПб., 1886.
- Страхов Н.Н. Психологические этюды И.М. Сеченова//Гражданин. 1873. № 47. С. 1260-1262; № 48. С. 1286-1289. То же: URL: http://az.lib.ru/s/strahow_n_n/text_0490oldorfo.shtml (дата обращения: 07.05.2013).
- Страхов Н.Н. Заметки о Пушкине и других поэтах. Киев, 1897. То же: URL: http://az.lib.ru/s/strahow_n_n/text_0090.shtml (дата обращения: 07.05.2013).
- Толстой Л.Н. Письма 1880-1886 гг.//Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений в 90 томах (Юбилейное). Т. 63. М.; Л., 1934.