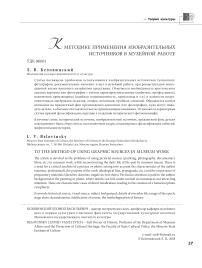К методике применения изобразительных источников в музейной работе
Автор: Беловинский Леонид Васильевич
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Теория культуры
Статья в выпуске: 5 (85), 2018 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена проблемам использования изобразительных источников (живописи, фотографии, документальных кинолент и пр.) в музейной работе, при реконструкции повседневной жизни прошлого музейными средствами. Отмечается необходимость критического анализа картины или фотографии с учётом характеристики автора (любитель, профессионал), назначения произведения (идейная тенденциозность, пропаганда и т.п.) и важности подготовительных материалов (эскизов, этюдов, негативов, пробных снимков). Обращается особое внимание на предметный фон произведения живописи или фотографии, куда могут попадать детали, в обычных обстоятельствах не привлекающие внимания. Отмечаются характерные случаи прямой фальсификации, ведущие к созданию исторического фотокиномифа.
Исторический источник, изобразительный источник, предметный фон, детали повседневного быта, образ эпохи, постановочные кадры, инсценировка, фальсификация событий, мифологизация истории
Короткий адрес: https://sciup.org/144161211
IDR: 144161211 | УДК: 069.01
Текст научной статьи К методике применения изобразительных источников в музейной работе
Изобразительные источники – произведения живописи и графики, в том числе чертежи, планы построек, авторские эскизы фасадов и прорисовки фрагментов и декоративных элементов интерьеров (лепнина, дверные ручки и т.п.), картины, а особенно документальная фото-, кино- и видеосъёмка, – обычно слывут надёжными, чрезвычайно достоверными. Однако, как и любой другой источник, они нуждаются в критическом отношении и тщательной проверке если не путём сравнения с другими источниками, то, по крайней мере, путём привлечения житейской логики, опирающейся на широкое и детальное знание всей совокупности исторического материала.
Не будем касаться здесь архитектурных чертежей и рисунков – они в основном проходят по ведомству реставрации и реконструкции памятников архитектуры и истории. Поговорим об использовании изоисточников в музейном деле. Они могут иметь большое значение. Например, в ряде богатых усадеб их владельцами были созданы музеи (Поречье Уваровых, Остафьево Вяземских, затем Шереметевых, Архангельское Юсуповых и другие), впоследствии уничтоженные. Старые фотографии позволяют с большей или меньшей полнотой судить о составе коллекций, развеске картин, раскладке предметов, конструкции витрин, то есть о музее, истории музейного дела.
В экспозиционной работе изоисточники могут служить как источниками сведений при реконструкции прошлого музейными средствами, так и в качестве этих «музейных средств», будучи представленными в экспозиции. В музейном деле неоценимую роль может играть так называемая интерьерная живопись 40–60-х годов XIX века (многочисленные изображения интерьеров усадебных домов, выполненные Г. Сорокой, и другие), а также произведения того направления, которое в советском искусствознании называлось «критическим реализмом», а в западноевропейском и постсоветском – «бидермей-ер». Возьмём для примера яркого представителя П. Федотова. В его известном «Свежем кавалере» мы до мельчайших деталей видим бытовую обстановку мелкого чиновника, обитающего где-то на чердаке: папильотки в волосах, одежду, мебель, бритвенный прибор, курительную трубку, гитару, песенник, бутылки из-под вина, кофейную мельницу, – то, мимо чего, воспринимая как обыденное, проходили собиратели и что давно исчезло. И здесь любые вербальные тексты абсолютно бессильны. Разумеется, и беллетристы, и очеркисты той поры описывали и костюмы, и интерьеры, но, так сказать, обобщённо. Ну кто в деталях описал бы щипцы для завивки или настольное зеркало? В мемуаристике мы имеем ряд очень детальных описаний интерьеров жилых комнат (Е. Андреева-Бальмонт, С. Дурылин, В. Харузина). Но как реально выглядели «два маленьких столика», которые «служили зыбкими пьедесталами для статуэток» или «курительный столик об одну ножку, с маленькой бронзовой гильотиной для обрубки сигар» (С. Дурылин), украшавшие гостиную купеческого дома? В этом смысле интерьерная живопись или более поздние интерьерные фотографии бесценны. Впрочем, это справедливо и для других жанров живописи. Так, в крупных библиотеках на выставках редкой книги или в литератур- ных мемориальных музеях нередко видим птичье (даже не всегда гусиное) перо, воткнутое в чернильницу или лежащее рядом с ней, в том виде, как оно существует в природе. Между тем на известном, не раз репродуцировавшемся портрете купца Киселева работы В. Тропинина из Московского музея В. Тропинина и художников его времени мы видим два пера: одно в чернильнице, другое – в опущенной руке модели, и оба с обрезанной бородкой. Такие же перья с обрезанной бородкой запечатлены в известной интерьерной картине Г. Сороки, изображающей кабинет в имении Милюковых Островки, на всем с детства известной картине П. Федотова «Завтрак аристократа» и т.д. И музейные, и библиотечные работники видели всё это – и не увидели. Проблема заключается в том, как научить, как заставить будущих и практикующих музейщиков увидеть деталь. Конечно, можно разбить картину (репродукцию) или фотографию на квадраты и рассматривать её поквадратно. Но ведь нужно ещё и знать, что ты хочешь увидеть.
Портретная живопись и фотопортрет позволяют нам с той или иной степенью точности судить не только об истории костюма и причёски. Например, что даёт нам типичная групповая фотография участников Гражданской войны? По внешности – только характерные костюмы. Но позы персонажей, например демонстрация часов (особенно это заметно, когда часы наручные: делается характерный жест), оружия, взятого на изготовку, дают психологическую характеристику и персонажей, и, особенно, времени. Фотопортрет крестьянки или рабочего рубежа XIX–XX веков – в наилучшем «престижном» костюме, характеризует и уровень материального положения персонажей, и их психологию, и знаковую роль костюма и аксессуаров.
Однако, при всём значении изобразительного источника, к нему следует относиться чрезвычайно осторожно, как и к любому иному историческому источнику. Недаром в источниковедении существует такой раздел, как критика источника. Даже живопись так называемых художников-реалистов преследует определённые цели, и в соответствии с ними художник отбирает и использует одни детали, иногда вопреки реальной действительности и логике, и отбрасывает другие. Возьмём в качестве примера широко известную и всем знакомую картину А. Венецианова «Весна. На пашне»: молодая крестьянка, ведя под уздцы лошадь, боронит пашню. Венецианов посвятил своё творчество крестьянской тематике, и уже в силу этого историки искусства относят его творчество к реалистической живописи, так что репродукциями его картин нередко иллюстрируют даже серьёзные тексты, посвящённые русской деревне. Нельзя не исключить такого и в музейной работе, например, в экспозиции типа «Быт русской крестьянки». На деле же мы имеем дело с абсолютно идеализированной картиной труда. В средней полосе России боронование посевов яровых шло во второй половине мая – начале июня, в жаркую сухую погоду. Мухи докучают лошади, облепляя слезящиеся глаза, она мотает головой, так что повод нужно держать в руках крепко, а не так, буквально двумя пальцами, как это изображено на картине. Борона поднимает тучи пыли, и, разумеется, в праздничном наряде (кумачный сарафан с золотым позументом, белые батистовые рукава рубахи) никто в поле работать не выходил. Наконец, о сухие комья земли в кровь сбиваются ноги, черные от пыли, так что такую работу выполняли в лаптях. Но бесформенные лапти с онучами, разумеется, портили бы всю картину, на которой крестьянка чуть ли не парит, едва касаясь земли белоснежными ножками. Репродукция или подлинник этой картины были бы уместны лишь в экспозиции «Идеализация крестьянского труда художниками-“протонародниками”».
Столь же необъективной может оказаться портретная живопись и кино-, фото, видеосъёмка. Модель обычно стремится представить себя в наиболее выгодном виде (ракурс, поза, выражение лица, костюм), а живописец или фотограф-профессионал дополнительно может преследовать ещё и художественные (и не только) цели. Необходимо различать съёмки любительские, профессиональные студийные и профессиональные репортёрские. В каждом случае имеет место особая цель и, соответственно, особое «содержание» фотоснимка. Считается, что «… любители используют фотографию для того, чтобы “рассказать” другим о событиях своей жизни, поэтому, во-первых, главным героем любительских фотографий является человек, а во-вторых, они “рассказывают” обо всём необычном, выдающемся, из ряда вон выходящем … Любители не снимают свои будни … Зато всё, что не воспринимается как повседневное … заставляет любителя взяться за фотоаппарат [3, с. 19– 20]». Разумеется, снимок даёт нам представление о, так сказать, идеальном представлении о человеке определённого круга в определённую эпоху: снимавшийся стремился на фотоснимке приблизиться к этому идеалу. Мы можем понять, как человек себя видел и как он хотел выглядеть. Зато с точки зрения историка интерес представляет «периферия» кадра, фон, на котором совершена съёмка: сюда могут попасть совершенно случайные люди и детали, то есть жизнь «как она есть». Например, на фотографии 1940–1950-х годов, изображающей празд- ничное застолье, можно обнаружить в жилой комнате холодильник (в «коммуналках» их не держали на кухне), на нём телевизор, покрытый салфеткой, а на телевизоре – комнатную антенну. Наш младший современник уже не знает, что телевизор той поры – семейный любимец, за ним ухаживали; к тому же, в тогдашних представлениях, телеэкран от света портился, и считалось, что его необходимо закрывать днём. Или любительское семейное фото на фоне самой ценной и красивой вещи – ковра, на который приколота белая дорожка с вышивкой ришелье – типичное явление этих лет, незнаемое сегодня. Оказываются зафиксированными «пошлые» детали давно ушедшего быта. С этой точки зрения наибольший интерес представляют снимки неопытного любителя, ещё не умеющего отобрать сам фон и его детали. А главное – это неретуширован-ная фотография. Так что процитированное выше мнение исследователя любительской фотографии О. Ю. Бойцовой можно оспорить. Фотолюбитель, не умеющий отбирать и организовывать материал для съёмки, может фотографировать всё подряд, и среди таких материалов могут оказаться весьма любопытные и даже редкие сюжеты. А то, что оказывается на заднем плане, – жизнь, «как она есть».
Что касается фоторепортажа, то он представляет интерес лишь с точки зрения психологии или идеологии эпохи: фоторепортёр снимает то, что «нужно». Но к реальной жизни это, как правило, имеет очень отдалённое отношение. Например, в советское время, в частности в период освоения целины, очень характерны были кадры типа «первая борозда»: по бескрайнему полю уступом, один за другим, идут трактора с многолемешными плугами, либо так же, один за другим, идут комбайны, причём в последнем случае, ввиду высоты хлебов и громоздкости агрегатов, кадры делаются сбоку сверху, очевидно, с вертолёта или низко летящего легкомоторного самолёта. Это постановочные кадры: так не работают. Во-первых, при остановке одной из первых машин (поломка и т.п.) сзади идущие также должны были простаивать. Во-вторых, учёт работы механизаторов вёлся с гектара «мягкой пахоты», а при огульной работе большой группой ни учёт, ни контроль качества невозможны. Это не что иное, как инсценировки, довольно обычные для фото-и кинорепортажей. Фото- или киножурналисты создавали героизированный, величественный образ советской эпохи, а на деле – фальшивку. Так, в многочисленных публикациях фотографий времён Великой Отечественной войны часто попадаются сцены кавалерийской сабельной атаки. По заснеженному полю в атаку, размахивая шашками, идёт компактная группа в несколько десятков человек. Нет упавших от огня противника лошадей и всадников, нет взрывов от самых распространённых тогда ротных минометов. Да и конная атака через проволочные заграждения и минные поля на позиции противника, сидящего в окопах и блиндажах с автоматическим оружием и миномётами, бессмысленна. Иногда на таких фотографиях плотные группы всадников скачут прямо на фотографа, вышедшего впереди атакующих, то есть в зону вражеского огня. Кроме иронии, такие снимки ничего не могут вызвать. Между тем очень соблазнительно поместить в музейной экспозиции, посвящённой войне, такого рода фотографию, демонстрирующую героизм советских воинов. Кавалерийские генералы времён войны в мемуарах прямо заявляли об отсутствии сабельных атак. Кавалерия ХХ века была просто ездящей пехотой, ло- шади были лишь транспортным средством, обеспечивающим пехоте мобильность. Атаки совершались только в пешем строю. Но некоторые командиры кавчастей инсценировали для приезжих фотокорреспондентов такие атаки. А наш неосведомлённый современник искренне верит всему этому. Не было таких атак, а были лишь их инсценировки в пропагандистских целях. Откровенно постановочные фотографии событий Великой Отечественной войны используются очень часто (знаменитый «Политрук», сцены водружения Знамени Победы на куполе Рейхстага и пр.), но к реальности они отношения не имеют.
Подобного рода фотографии, интересные лишь с художественной точки зрения, чрезвычайно популярны и используются очень широко в музеях. Исследователь кино-фотофонодокументалистики В. Магидов пишет: «Как и многие письменные источники, КФФД являются политически направленным источником, отражающим присущие данному обществу политические воззрения и способы интерпретации события. Они отличаются двойственностью, проявляющейся в сочетании объективного отражения действительности с субъективной деятельностью автора; публицистичностью, приближаясь … к периодической печати; определённой фрагментарностью и ограниченностью в отражении событий, явлений, фактов … [13, с. 219]».
Бывают и факты включения в документальную кинохронику фрагментов художественных кинофильмов. Так, в последние десятилетия советского периода в документальные ленты, повествующие о событиях октября 1917 года в Петрограде, непременно включалась сцена штурма Зимнего дворца: из под арки Главного штаба через площадь бегут атакующие, матрос лезет на решетку ворот, они медленно отворяются и т.д. Но, во-первых, все современники отмечают, что никакого «штурма» не было: дворец практи- чески никем уже не охранялся, и участники его взятия проникли через многочисленные двери и окна первого этажа. Во-вторых, в ту пору ещё не было средств ночной киносъёмки; к тому же съёмка ведётся с движущейся по рельсам тележки с камерой и оператором. Разумеется, никто бы не стал прокладывать такие рельсы и пускать вместе со штурмующими кинооператора. Это фрагмент художественного кинофильма М. Ромма «Ленин в Октябре», в 1960-х годах включённый кем-то из кинодеятелей в ленту вместе с документальными кадрами. А теперь этот фрагмент включают во все подобные «документальные» ленты как подлинный.
Но, помимо такой более или менее безвредной визуальной мифологизации истории, можно обнаружить и факты прямой фальсификации. В Интернете можно найти фото со сценами повешения немцами советских людей, в том числе и девушек-санинструкторов. Отрицать факты повешения нацистскими карателями людей бессмысленно; например, в соответствии с инструкциями, вешали партизан и подпольщиков, которые расценивались как бандиты. Но в данном случае мы сталкиваемся с фальсификацией: большие «законники», немцы пленный медперсонал противника использовали по прямому назначению, для лечения военнопленных. И тут же, рядом, в Интернете даются изначальные фотографии, без повешенных, которые «пристроены» позже.
Подобного рода разоблаченных фальсификаций можно найти немало. Термин «фотошоп» недавнего происхождения, а практика давняя. Среди профессиональных фотографов даже бытовал термин «пальмирова-ние»: в эпоху политической нестабильности в СССР 1930–1940-х годов с фотографий президиумов различных торжественных собраний удалялись лица, неожиданно оказав- шиеся «врагами народа», а пустое место занимали развесистые пальмы, украшавшие сцену.
Рассуждая об этих чертах кинофото-фонодокументалистики, В. Магидов пишет: «Фальсификация событий и фактов, отражённых в КФФД, довольно распространена. Она находит своё проявление с разными степенями интенсивности и размаха с момента возникновения фотографии, кинематографии и звукозаписи. Практически для всех периодов отечественной истории … можно найти примеры искажённой трактовки исторических событий путём использования методов и средств кинофотодокументирования [13, с. 35]». Магидов по пунктам излагает методики фальсификации кинофотодокументов, а также характеризует особенности хранения, точнее, изъятия по идеологическим соображениям отдельных кадров и фрагментов, перемонтажа и даже физического уничтожения. В связи с этим интерес представляют не только отпечатки или репродукции, но и фотонегативы, пробы, варианты, подготовительные кадры – весь комплекс, который может сопровождать и негатив, и фотоотпечаток, и репродукцию, а также, при сохранении исходных материалов, люблпытна разница в оригиналах и отпечатках ввиду возможности ретуширования, в том числе неоднократного.
К сожалению, до сих пор приёмы и ме- тоды подлинно научного применения изобразительных источников в музейном деле не разработаны. Как правило, изобразительный ряд подаётся лишь в качестве иллюстраций. Задача разработки методик научного применения изобразительных источников – дело будущего.
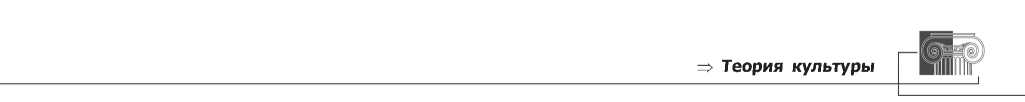
Список литературы К методике применения изобразительных источников в музейной работе
- Арутюнов К. А. Научно-познавательное значение кинофотофонодокументов истории Великой Отечественной войны: автореферат дис.. на соиск. учён. степ. кандидата исторических наук: 07.00.02 / Арутюнов Кимик Арменакович; Московский государственный историко-архивный институт. Москва, 1978. 22 с.
- Баталин В. Н., Малышева Г. Е. Проблемы внешней критики фотодокументов в процессе их источниковедческого анализа // Отечественные архивы. 1994. № 2. С. 15-19.
- Бойцова О. Ю. Любительские фото: визуальная культура повседневности. Санкт-Петербург: Европейский Университет в Санкт-Петербурге, 2013. 265 с.
- Евграфов Е. М. Кинофотодокументы как исторический источник: учебное пособие / Министерство высшего и среднего специального образования РСФСР; Московский государственный историко-архивный институт. Москва: [б. и.], 1973. 44 с.
- Кардин В. Ветер вчерашнего дня // Искусство кино. 1988. № 4. С. 18-28.