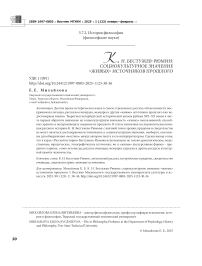К. Н. Бестужев-Рюмин: социокультурное значение «живых» источников прошлого
Автор: Михайлова Е.Е.
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: История философии.Философская антропология.Философия культуры
Статья в выпуске: 1 (123), 2025 года.
Бесплатный доступ
Долгое время историческая наука в своем стремлении достичь объективности воспринимала легенды, рассказы очевидцев, мемуары и другие «живые» источники прошлого как недостоверные знания. Теоретики петербургской исторической школы рубежа XIX XX веков в числе первых обратили внимание на социокультурную значимость «живых» высказываний, способных хранить и воспроизводить сведения из прошлого. В статье высвечена исследовательская позиция русского историка К. Н. Бестужева Рюмина: с научной точки зрения, предания и свидетельства не могут являться достоверными источниками; в социокультурном значении, наоборот, они важны для обнаружения «мостика» между автором текста и его интерпретатором. Сделан вывод о том, что в курсе «Русской истории» Бестужева Рюмина использованы не только археологические, вещественные, юридические, этнографические источники, но и «живые» дискурсивные формы предания старины, слово летописца, рассказ очевидца, мемуары, курьезы и другие ресурсы культурной памяти человечества.
К. н. бестужев-рюмин, летописный рассказ, историческое предание, свидетельство очевидца, социокультурное значение источников
Короткий адрес: https://sciup.org/144163379
IDR: 144163379 | УДК: 1 | DOI: 10.24412/1997-0803-2025-1123-30-36
Текст научной статьи К. Н. Бестужев-Рюмин: социокультурное значение «живых» источников прошлого
Культурно-историческая память складывается из воспоминаний, которые люди проносят из века в век сквозь поколенческий опыт. В общих чертах механизм коллективного воспоминания рисуется исследователями социогуманитарного знания в триаде «восприятие – запоминание/фиксация – воспроизводство» [7]. В объяснении природы этого феномена считается важным учитывать большое количество факторов – природных, исторических, социальных и культурных. В последние десятилетия актуализируется интерес к «живой» истории (личные воспоминания, индивидуальные судьбы, поколенческие традиции и т. д.) и к «живым» источниками прошлого [1, с. 180]. Под последними подразумеваются две формы высказываний: с одной стороны, жанры устного народного творчества – мифы, легенды, предания, сказки; с другой стороны, письменно зафиксированные наблюдения – сказания летописцев, свидетельства очевидцев, автобиографии и биографии, сделанные современниками, известия о событиях и их пересказы, слухи, курьезы и другие ресурсы культурной памяти человечества [3; 9]. Так, рассматривая сказку в качестве особой формы реализации смысла, А. Е. Рыбас прямо характеризует ее как «живой» след культуры, по которому надо двигаться дальше, чтобы «сказка продолжалась», чтобы человек обретал уверенность в возможность чуда или мистики совпадений [9, с. 116, 118].
Мысли о ценностно-теоретической значимости исторических преданий и свидетельств можно встретить в работах представителей петербургской исторической школы рубежа XIX–XX веков. Наиболее развернутую теоретизацию они получили в двухтомной работе А. С. Лаппо-Данилевского «Методология истории» (СПб., 1910–1913 гг.) [4]. Предания и рассказы очевидцев, пересказы и слухи – все эти свидетельства, на взгляд русского методолога, с научной точки зрения являются недостоверным материалом. Однако в социокультурном плане они помогают историку индивидуализировать критическую оценку человека известной культуры [1].
Изложенные взгляды Лаппо-Данилев-ского перекликаются с позицией научного критического отношения к источникам одного из основателей петербургской исторической школы Константина Николаевича Бестужева-Рюмина (1829–1897). Деятельность Бестужева-Рюмина по систематизации источников уже при его жизни высоко оценивалась современниками. Петербургский ученый ставил перед собой три задачи: систематизировать источники, подвергать их исторической критике и излагать русскую историю на основе выверенных источников. Даже сегодня исследователи отмечают, с какой тщательностью организован у Бестужева-Рюмина библиографический раздел его «Русской истории», насколько грамотно проведен сравнительный анализ имеющихся в его распоряжении исследований [6; 8].
Предложенный разговор о социокультурном значении «живых» источников в творчестве Бестужева-Рюмина следует начать с фиксации двух текстовых особенностей его «Русской истории» [2]. Первая: в основу исторического повествования положены не только археологические, вещественные, юридические, этнографические источники, но и сведения летописцев, предания, сказания, жития, рассказы, мемуары, даже курьезы. Вторая: основному изложению курса русской истории предшествует раздел, в котором подробно анализируются все виды индивидуализированных высказываний о прошлом. Перечисленные вводные обстоятельства позволяют обозначить цель статьи – рассмотреть, как оказались встроенными «живые» источники прошлого в историческое повествование К. Н. Бестужева-Рюмина и какое социокультурное значение он придает этим обстоятельствам.
Во введении к «Русской истории» Бестужев-Рюмин уделяет пристальное внимание трем группам авторов, из текстов которых можно извлечь первую информацию о славянах, – византийским летописцам, арабским писателям, западноевропейским и западнославянским очевидцам. По выкладкам Бестужева-Рюмина, в сказаниях византий- ских авторов VI–XII веков встречаются самые ранние известия о быте, религии, военных походах, торговле и нравах славян. Первым рассматривается Прокопий (VI в.), далее фиксируются Феофилакт Симокатта, Константин Багрянородный, Лев Диакон и другие авторы, оставившие непосредственную информацию о славянах. У арабских писателей X–XIV веков также находятся сведения, касающиеся Древней Руси. В качестве значимых очевидцев петербургский историк называет таких, как Ибн Хордадбех, Ибн Фадлан, Ат-Табари, Аль Масуди и других арабоязычных путешественников. Полнота выборки их высказываний помогает пролить свет на торговлю, переселения, воинский стиль и этнографию славянских народов.
Характеризуя первые две группы источников, Бестужев-Рюмин говорит, что византийские сведения информационно более надежны, но разрозненны и отрывочны, поэтому перед учеными стоит насущная задача – достичь «полного выбора с критической оценкой всего годного для русской истории». Сведения арабских писателей более подробны, но менее достоверны, поскольку, на взгляд русского историка, им мешает излишнее «богатство фантазии» [2, с. 161, 199].
Самый широкий диапазон свидетельств (с VI века до середины XIX века), по понятной локационной близости, имеет третья группа «живых» источников – записки, донесения, отчеты, мемуары, книги западноевропейских и западнославянских очевидцев. Бестужев-Рюмин начинает с первых сведений о славянах готского историка Иордана (VI в.), далее следует за средневековыми авторами, среди которых Григорий Турский, Эйнхард, Козьма Пражский, Генрих Латвийский, Вульфстан и Отер, Плано Каприни, Энтони Дженкин-сон, Жак Маржерет и другие. Подробно перечисляются очевидцы и писатели от эпохи правления Алексея Михайловича до Павла I.
Интересны краткие и меткие характеристики, которые попутно дает Бестужев-Рюмин записям, донесениям и книгам авторов. Например, редакция летописей краковского каноника
Яна Длугоша есть «громадная компиляция»; сочинения Сигизмунда фон Герберштейна – «один из самых важных источников для изучения Русской истории»; Исаак Масса – «составитель замечательной карты России»; собрание рисунков Августина Мейерберга – «одно из лучших пособий для изучения русских древностей»; записками Яна Килинского «надо пользоваться с осторожностью»; история России Пьера Левека «сухая и тяжелая, но далеко не бесполезная» и так далее [2, с. 164–176].
В своей совокупности источниковедческая картина, выведенная Бестужевым-Рюминым, создает у читателя эффект «узнаваемости», когда он приступает непосредственно к изучению курса «Русской истории». На том или ином фрагменте текста в сознании читателя всплывает имя летописца, или писателя, или путешественника, о записях которых, со всеми их достоинствами и недостатками, он уже был ознакомлен во введении к курсу истории. Два примера могут послужить иллюстрацией высказанного суждения.
Первый пример связан с оценкой образа жизни славян в период складывания государства. Бестужев-Рюмина указывает, что самые древние сведения о верованиях и быте славян обнаруживаются в сказаниях византийских историков. Цитируя их записи, историк считает нужным напомнить, что рассказы полны неточностей, противоречий и преувеличений [2, с. 199]. Это хорошо видно на подмеченных им разночтениях в оценке жизненного уклада славян. По свидетельству одного, у славян преобладают «мирные наклонности», они вооружены не мечами, а кефалями (Феофилакт); другой пишет о том, что славяне «любят сражаться» (Маврикий); третий считает, что славянам свойственен «мирный земледельческий быт» (Лев Диакон) [2, с. 231]. Интересно, что сам Бестужев-Рюмин воздерживается от однозначных оценок. Однако по контексту можно понять и его позицию. Например, в курсе «Русской истории» им фиксируется – без вводных слов сомнения – сложившийся у полян обычай платить дань хазарам мечами. Более того, историк считает приемлемым включить рассказ арабского писателя X века Ибн Дасты о славянском обряде в честь новорожденного ребенка, согласно которому отец кладет перед сыном меч и говорит: «Не оставляю тебе в наследство никакого имущества: будешь иметь только то, что приобретешь себе этим мечом» [2, с. 232].
Примечательно, что история с мечом встречается и в курсе лекций по русской истории В. О. Ключевского. Историк-позитивист называет рассказ о дани в виде меча «древним киевским преданием» и наделяет его далеко идущим символическим смыслом. Он цитирует слова летописца о том, как отреагировали хазарские старейшины на привезенную из русского похода дань в виде меча: «Не добра эта дань, князь; мы доискались ее оружием односторонним, т. е. саблями, а у этих оружие обоюдоострое, т. е. меч; они будут брать дань с нас и с других стран» [5, с. 139]. Символизм предания, по наблюдениям Ключевского, сводится к тому, что дальнейшая история действительно все расставила по своим местам: хазары вошли в состав древнерусского государства и стали платить дань киевскому князю.
Второй пример иллюстрирует то, как Бестужев-Рюмин во введении детально изучает источники по русской истории и как происходит последующая «встреча» читателя с их авторами на страницах «Русской истории». Этот пример связан с именем Андрея Курбского – современника Ивана IV. В историографическом обзоре Бестужев-Рюмин кратко рисует историю взаимоотношений князя Курбского и царя Ивана Грозного и дает читателю прямую установку в отношении сочинения А. М. Курбского о деяниях Ивана Грозного. Оно представлено как политическое высказывание, направленное против борьбы царя с боярскими родами. Историк резюмирует: «По явному пристрастию, верить Курбскому вполне нельзя, но книга его сама по себе интересна, как выражение мнения известной партии» [2, с. 102]. Далее, в той части «Русской истории», где описывается жизнь и деяния Ивана Грозного, Бестужев-Рюмин цитирует Курбского с разной тональностью. В одном случае в одобрительном ключе приводится оценочное заключение о падении нравственного облика царя: «Душу его от прокаженных язв исцелил и очистил бы, и развращенный ум исправил» [2, с. 639]. В другом случае подвергаются критике односторонние выводы Курбского об исключительной роли молодых и образованных придворных, проводивших реформы государственного управления: «Не думаем, чтобы много могли сделать какие-либо советники без полного убеждения со стороны царя о необходимости изменить многое в существующем строе» [2, с. 642].
По мере чтения «Русской истории» Бестужева-Рюмина складывается впечатление о том, что сведения очевидцев кажутся автору крайне важными и уместными источниками. Однако видно, как он ратует за необходимость подвергать их критической оценке. С одной стороны, по наблюдениям автора, показания очевидцев «сохраняют драгоценные для истории подробности», с другой стороны, надо «очень осторожно обращаться с источниками этого рода» [2, с. 94, 98]. Впоследствии схожий исследовательский прием Лаппо-Данилевский назовет «индивидуализирующей интерпретацией». Процедура предполагает, что исследователь «живых» источников должен сделать ряд обязательных шагов: собрать сведения об индивидуальных особенностях автора, чтобы оценить степень беспристрастности его записей; очертить его положение в обществе, чтобы понять мотивацию высказываний, моральные установки, эстетические вкусы и другие свойства; наконец, изучить обстановку, в которой зарождались записи: война или мир, кризис или спокойствие и т. д. «Таким образом, благодаря своему знакомству с личностью автора, историк получает возможность индивидуализировать критическую оценку его показаний», – такими словами Лаппо-Данилевский солидаризируется со своим старшим современником Бестужевым-Рюминым [4, с. 346].
На первый взгляд создается впечатление, что исторические предания как «живые» источники прошлого привлекают внимание Бестужева-Рюмина гораздо меньше, чем по- казания непосредственных участников событий во всем их дискурсивном многообразии: от слов летописцев, путешественников, торговцев, послов, писателей, придворных мемуаристов – до суждений наемных солдат, авантюристов или просто искателей разного рода приключений. Однако, если вдумчиво двигаться по тексту, то видно, что в «Русской истории» преданиям отведена особая роль. В интенции Бестужева-Рюмина они наполняют своими «поэтическими фантазиями» сухой текст изложения событий прошлого, чтобы читатель смог подключить интуицию и воображение, испытать эмпатические сопереживания с людьми и событиями прошлого.
Исследователи творчества Бестужева-Рюмина солидарны в том, что он старался обнаружить схожие черты в общественном устройстве чехов, сербов, поляков и восточных славян, особенно на стадии складывания ранних государств. Например, именно одинаковой жизненной организацией в форме семейных общин объяснялось происхождение и расселение славян [8]. В «Русской истории», говоря о формировании государства у славян, Бестужев-Рюмин не поддерживает теорию родового строя С. М. Соловьева и выведенную им линию развития «род – территориальная община – племя – государство», а настаивает, что «общины территориальные могли создаваться только из имеющихся уже семейных элементов и по их образцам» [2, с. 220].
Возможно, для художественного усиления мысли о приоритете семейного устройства над родовым Бестужев-Рюмин вводит в текст «Русской истории» довольно длинную легенду об обряде легитимации князя, выбранного ранее на вечевом сходе у чешских славян. К старосте семейной общины подходит новоизбранный князь с дружиной. Далее цитируется такой диалог: – «Кого вы везете?». – «Князя земли этой, которому ты должен уступить стол». – «Не сделаю это, пока не узнаю, достоин ли сидеть на этом столе?». – «Честный ли, благородный ли он человек?». – «Справедливый ли он судья, не позволяющий ни дружбе, ни вражде отвлекать себя от правды?». – «Будет ли соблюдать покой земли, охранять вдов и сирот, поддерживать право каждого?». После положительных ответов начинается ритуал присяги. Здесь же Бестужев-Рюмин признается, что риторика чешского предания перекликается с русским: и те, и другие взывают к символическому порядку, справедливости и чести. Историк цитирует обращение послов русских славян к варягам: «Земля наша велика и обильна, а наряда в ней нет; да пойдите княжить и во-лодети нами» [2, с. 224]1.
По понятным причинам, за дальностью веков, легенды и предания часто встречаются в истории Древнерусского государства. Однако интересно, что и для изложения последующих страниц «Русской истории» Бестужев-Рюмин не оставляет без внимания рассказы о чудесах. Так, история о походе Ивана Грозного против Казанского ханства объяснялась и фактами, и мифами. С фактической точки зрения, взятие Казани было необходимо для безопасности торгового пути по Волге и «чтобы укрепить город людьми русскими» [2, с. 644]. Рядом с фактами соседствует мифологический рассказ о том, как при взятии казанского кремля стояла плохая погода, потому что татары «на войско христианское чары творили и великую плювию наводили». Рассказ завершается тем, что пришлось посылать в Москву за крестом; когда обошли с ним войско, сразу «погода установилась» [2, с. 645]. Из этого примера видно, что работа с фактами олицетворяет профессиональный взгляд историка на деятельность Ивана IV, а предание рассказывает о силе веры и о желании иметь, как в сказке, счастливый конец исторического события.
Богатый этнографический материал, накопленный к концу XIX века, заставил представителей петербургской исторической школы задаться следующим вопросом:
-
1 Наряд – порядок, устройство, правопорядок, организация. См.: Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 10 (Н – наятися) / сост. Г. А. Богатова. М.: Наука, 1983. С. 227.
как можно соединить в изложении истории такие столь различные представления о прошлом, как факт и миф? В их трудах обнаруживаем динамику «ответа» на этот «вызов». Если внимательно вглядеться в трактовку «живых» источников прошлого на страницах «Русской истории» Бестужева-Рюмина, то с точки зрения тонкости интерпретации вырисовывается социокультурный посыл: рассказы очевидцев и произведения фантазии и вымысла следует рассматривать как особое высказывание о событиях и деятелях прошлого, поэтому их следует включать в круг источников и подвергать исторической критике наравне с доказательно обоснованными фактами. В плеяде молодых представителей исторической школы Петербурга выкладки Бестужева-Рюмина нашли свою дальнейшую интерпретацию. Так, Лаппо-Данилевский, изучая свидетельства очевидцев событий прошлого, проводит теоретические разграничения разновидностей «волевых показаний» и предлагает брать в расчет мотивационные соображения носителей «живого» высказывания [4, с. 318–319].
Использование «живых» источников прошлого, в рецепции Бестужева-Рюмина, подразумевает, что исследователь и читатель не просто получают информацию, но активно взаимодействуют с ней: сопереживают, анализируют, «примеряют» на свою настоящую жизнь. Индивидуализированные высказывания, встроенные в текст «Русской истории» Бестужева-Рюмина, усиливают рефлексию, интуицию, эмпатию, воображение и другие аспекты человеческого опыта, которые помогают понять мир автора прошлых лет через читателя, живущего «здесь-и-теперь».
Бестужев-Рюмин не просто уделял большое внимание изучению разнообразных источников, включая летописи, законодательные акты, мемуары, письма и другие документы, но и осуществлял глубокий анализ каждого источника. Можно выделить три способа, помогающие историку гармонично использовать и научные факты, и «живые» источники в изложении истории. Во-первых,
Бестужев-Рюмин стремился понять не только содержание источника, но и контекст его создания; для этого он учитывал социокультурные условия, а также – политические и социальные факторы непосредственного момента события. Во-вторых, исследователь использовал сравнительный метод, сопоставляя исторические события, происходящие не только в России, но и в других странах, в первую очередь, в локациях проживания западных и южных славян. Это помогало выявлять уникальные черты российской истории и понимать ее место в мировом историческом процессе. В-третьих, ученый стремился к объективности и критическому осмыслению информации. Очевидно, что одним из ключевых методов работы Бестужева-Рюмина было сопоставление различных источников для выявления противоречий и несоответствий. Это позволяло более точно интерпретировать события прошлого и избегать односторонних оценок. Вот почему живое слово очевидца исторического события было для историка настолько же важным, как и доказанный научный факт. Разумеется, научный факт и «живое» слово как инструменты исторического познания являются диаметральными противоположностями. Несмотря на это в «Русской истории» Бестужева-Рюмина они представляют собой сбалансированное целое. Наука активно движется к объекту, анализирует его; «живые» источники сами говорят с читателем, придавая высказыванию доверительную тональность.
Список литературы К. Н. Бестужев-Рюмин: социокультурное значение «живых» источников прошлого
- Академик А. С. Лаппо-Данилевский в памяти научного сообщества: сборник. Санкт-Петербург: Интерсоцис, 2019. 888 с.
- Бестужев-Рюмин К. Н. Русская история. До эпохи Ивана Грозного. Москва: Академический Проект, Культура, 2015. 702 с.
- Воеводина Л. Н. Мифология как часть символического универсума // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2014. № 5. С. 51-57. EDN: SYIZSV
- Лаппо-Данилевский А. С. Методология истории: в двух томах. Т. 2.Москва:РОССПЕН, 2010. 632 с.
- Ключевский В. О. Сочинения: в девяти томах. Т. I. Курс русской истории. Часть 1.Москва:Мысль, 1987. 430 с.
- Малинов А. В., Петряев С. В. Бестужев Рюмин Константин Николаевич. 1829-1897 // Историки России. Иконография. Сборник научных статей. Москва: Собрание, 2023. С. 86-97.
- Мареева Е. В. Культурная память и парадигмы в изучении прошлого: от философии истории к memory studies // Науки о культуре: теория и практика. Коллективная монография. Москва: Московский государственный институт культуры, 2023. С. 27-39. EDN: JOHCSF
- Михайлова Е. Е. Историософские взгляды К. Н. Бестужева-Рюмина в оценке В. О. Ключевского // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Философия. 2024. № 3. С. 162-169. EDN: FJLZTZ
- Рыбас А. Е. Философия русской сказки // Вече. 2016. № 28. С. 113-129. EDN: YFNAFR