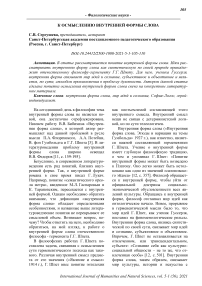К осмыслению внутренней формы слова
Автор: Сергушева С.В.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Филологические науки
Статья в выпуске: 5-1 (56), 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается понятие внутренней формы слова. Идея рассматривать внутреннюю форму слова как синтетическую по своей природе принадлежит отечественному философу-герменевту Г.Г. Шпету. Для него, ученика Гуссерля, внутренняя форма связывает мир идей и сознание, субъективное и объективное и является, по сути, способом проникновения в проблему духовности. Автором данной статьи сделана попытка осмысления внутренней формы слова свеча на конкретном литературном материале.
Внутренняя форма слова, мир идей и сознание, софия-логос, герой-индивидуалист
Короткий адрес: https://sciup.org/170190964
IDR: 170190964 | DOI: 10.24412/2500-1000-2021-5-1-105-110
Текст научной статьи К осмыслению внутренней формы слова
На сегодняшний день в философии тема внутренней формы слова не является новой, она достаточно отрефлексирована. Назовем работу В.В. Бибихина «Внутренняя форма слова», в которой автор размышляет над данной проблемой в русле мысли П.А. Флоренского, А.А. Потебни, В. фон Гумбольдта и Г.Г. Шпета [3]. В литературоведении проблему внутренней формы слова широко освещал В.В. Федоров [11, с. 159-195].
Безусловно, в современном литературоведении есть ряд понятий, близких внутренней форме. Так, о внутренней форме романа в свое время писал Г. Лукач. Например, понятие «семантического ореола метра», введенное М.Л. Гаспаровым и К. Тарановским, пересекается с внутренней формой. Однако необходимо обратить внимание, что дефиниция «внутренняя форма слова» обладает определенными особенностями, и названные выше литературоведческие понятия не перекрывают ее смысловой объем. Возникает вопрос, почему? Чтобы ответить на него, необходимо обратиться, на мой взгляд, к работе о внутренней форме слова отечественного философа - герменевта Г.Г. Шпета.
В философских работах Г. Шпета поставлена задача, связанная с осмыслением сути герменевтического подхода как такового. Различая внутренний смысл предмета от его значения («Явление и смысл» 1914 г.), Г. Шпет внес понятие энтелехии как неотъемлемой составляющей этого внутреннего смысла. Внутренний смысл вещи не связан с детерминистской логикой, но по сути телеологичен.
Внутренняя форма слова («Внутренняя форма слова. Этюды и вариации на темы Гумбольда» 1927 г.), как известно, является важной составляющей герменевтики Г. Шпета. Учение о внутренней форме имеет глубокую философскую традицию, о чем и упоминал Г. Шпет: «Понятие внутренней формы может быть возведено к Платону. Оно легко может быть истолковано как одно из значений платоновского эйдоса» [12, c. 357]. Философ обращается к внутренней форме, чтобы уйти от официальной доктрины социальноэкономической обусловленности всех явлений культуры. Обращаясь к внутренней форме, философ отстаивал мир идей как онтологическое начало. Новое, прорывное в герменевтической мысли было то, что мир идей Г. Шпет, как ученик Гуссерля, поставил на феноменологические рельсы. Внутренняя форма слова, являясь синтетической по своей сути, связывает мир идей и сознание, субъективное и объективное. Впрочем, Г. Шпет не останавливается на отвлеченном, или трансцендентальном, субъекте: «Сознание себя как культурносоциальной общности – не то же, что отвлеченная особь» [12, с. 501]. Внутренняя форма слова, таким образом, связывает мир культуры, истории и искусства с внутренним миром человека и является, по сути, «одним из вернейших способов проникновения в проблему духовности - как индивидуальной, так и коллективной» [13, с. 120].
Продемонстрируем в качестве примера внутреннюю форму слова свеча. Точкой отсчета возьмем программное стихотворение И.С. Никитина из учебника по литературе для 5 класса под ред. В.Я. Коровиной. В учебнике в разделе «Русские поэты 19 века о Родине, родной природе и о себе» представлен отрывок из стихотворения И.С. Никитина «Зимняя ночь в деревне»:
Весело сияет
Месяц над селом;
Белый снег сверкает
Синим огоньком.
Месяца лучами
Божий храм облит;
Крест под облаками, Как свеча горит.
Пусто, одиноко
Сонное село;
Вьюгами глубоко
Избы занесло.
Тишина немая
В улицах пустых,
И не слышно лая
Псов сторожевых.
Авторы учебника представили стихотворение в усеченном варианте как стихотворение, изображающее картину природы. А вот продолжение этого произведения.
Помоляся Богу,
Спит крестьянский люд,
Позабыв тревогу
И тяжелый труд.
Лишь в одной избушке
Огонек горит:
Бедная старушка
Там больна лежит.
Думает-гадает
Про своих сирот:
Кто их приласкает,
Как она умрет.
Горемыки-детки,
Долго ли до бед! Оба малолетки, Разуму в них нет;
Как начнут шататься
По дворам чужим –
Мудрено ль связаться
С человеком злым!..
А уж тут дорога
Не к добру лежит:
Позабудут Бога,
Потеряют стыд.
Господи, помилуй
Горемык-сирот!
Дай им разум-силу,
Будь ты им в оплот!..
И в лампадке медной
Теплится огонь, Освещая бледно Лик святых икон, И черты старушки, Полные забот, И в углу избушки Дремлющих сирот.
Вот петух бессонный
Где-то закричал;
Полночи спокойной
Долгий час настал.
И бог весть отколе
Песенник лихой
Вдруг промчался в поле
С тройкой удалой, И в морозной дали Тихо потонул И напев печали, И тоски разгул.
Вторая часть стихотворения, в общем-то, рассеивает представление о том, что перед нами стихотворение о родной природе. Стихотворение представляет собой, по сути, молитву о вразумлении детей-сирот («Дай им силу-разум // Будь ты им в оплот»). Иван Никитин, обучавшийся в воронежской духовной семинарии, безусловно, был знаком с литургической поэзией. Для православной традиции (и ее богословия, и молитвенной практики) разумение, разум, познание истолковываются в перспективе света. Более того, свет - это и сам Бог. Отождествление Бога и Света утверждается Символом веры. Хочу обратить внимание на одну работу
С. Аверинцева, посвященную, кстати, осмыслению Софии, мудрости в контексте христианской культуры, - «К уяснению смысла надписи над конхой центральной апсиды Софии Киевской». Приведу небольшой отрывок из работы. «Византийская эксегеза усматривала образ Премудрости Божией в женщине из евангельской притчи, отыскивающей потерянную драхму. В проповеди на этот текст, ложно приписанный Иоанну Златоусту, мы читаем: «…И вновь Премудрость, светоченосица Христова, возжегши свечу и утвердив ее на подсвещнике креста, всей вселенной освещает путь к благочестию. Свечою этою пользовалась Премудрость Божия, когда искала утраченную драхму, единую из десяти, девять же ангельских драхм сочетала воедино. Кто же эта жена, имущая десять драхм. Каковых? Сочти: Ангелы, Архангелы, Начала, Власти, Силы, Престолы, Господства, Херувимы, Серафимы, и Адам первозданный. Эту-то драхму Адамову, диавольским коварством похищенную, и в бездну житейскую погруженную, и многообразными греховными наслаждениями засыпанную, Премудрость Божия, явившись, вновь отыскала. Как отыскала, возлюбленная? Сошла с небес, приняла глиняную лампаду плоти, засветила в ней свет Божества, утвердила на подсвещнике креста, взыскала драхму, во двор сей и в овчарне ангельской водворила ее» [1, с. 548-592]. «Свет Божества» на «подсвещнике креста» соотносится с никитинскими строками «Крест под облака-ми\\ Как свеча горит». Первая часть стихотворения изображает, по сути, не столько природу, сколько космос. Как пишет С. Аверинцев, одним из главных символов библейской премудрости является Дом: «малая вселенная человеческого дома» и «большой дом богосозданной вселенной».
Образ «Премудрости, светоченосицы Христовой, возжегшей свечу» «отзовется» в русской литературе протяжным эхом. Роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». Первый приход Раскольникова к Соне. «Покамест он бродил в темноте и недоумении, где бы мог быть вход к Капернауму, вдруг, в трех шагах от него, отворилась какая-то дверь; он схватился за нее машинально». Раскольников входит в переднюю, на свет горящей свечи, и проходит в комнату Сони, вслед за ним, со свечой в руках, входит и Соня. «Тут, на продавленном стуле, в искривленном медном подсвечнике, стояла свеча.
- Это вы! Господи! - слабо вскрикнула Соня и стала как вкопанная.
- Куда к вам? Сюда?
И Раскольников, стараясь не глядеть на нее, поскорей прошел в комнату. Через минуту вошла со свечой и Соня, поставила свечку и стала сама перед ним, совсем растерявшаяся, вся в невыразимом волнении и, видимо, испуганная его неожиданным посещением».
Копернаум - это город Христа, именно здесь Он сказал: «Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». В то же время М.С. Альтман обратил внимание на то, что «капернаумами» во второй половине 19 века в России называли питейные заведения и трактиры [2, с. 55]. Б.Н. Тихомиров в связи с этим пишет: «Вряд ли целесообразно прямолинейно противопоставлять» эти две - евангельскую и «трактирную» - интерпретации: «По-видимому, правильнее будет говорить о контрапунктическом значении фамилии Капернаумова, сочетающей в себе высокое, евангельское звучание и сниженное, «трактирное» [9, с. 77 ]. В связи с «трактирной» интерпретацией интересны наблюдения Т. Касаткиной о «пьянстве греха» как варианте осмысления в романе темы «пьяненьких»: «Речь не о пьянстве как о социальном явлении, даже не о пьянстве как одном из грехов, но о пьянстве греха, растлевающего плоть и помутняю-щего разум: недаром Раскольникова после совершения преступления неоднократно принимают за пьяного, а Свидригайлов говорит о блудном грехе, как о замене пьянства» [4, с. 189]. Поскольку роман Достоевского - это роман о воскресении (в центре романа «Преступление и наказание» находится включенная в текст глава о праведном Лазаре), то дверь - это и «гробовая дверь», и «дверь» веры, и сам Христос.
Далее. Н. Фатеева интересно писала о мотиве огарка свечи , общем в романах Ф.
Достоевского «Преступление и наказание» и Б. Пастернака «Доктор Живаго»: «Вспомним текстовую ситуацию романа, когда Антипов и Лара сидят в комнате дома по Камергерскому переулку при свете свечи, которую видит в оттаявшем «глазке» проезжающий мимо Живаго. При виде этой свечи Живаго начал шептать «про себя начало чего-то смутного, неоформив-шегося»: свеча горела на столе, свеча горела - строки, легшие в основу «Зимней ночи» из «Стихотворений Юрия Живаго». В комнате же происходило следующее: «Он сменил огарок в подсвечнике на новую целую свечу, поставил на подоконник и зажег ее. Пламя захлебнулось стеарином, постреляло во все стороны трескучими звездами и заострилось стрелкой. Комната наполнилась мягким светом…». Эту ситуацию можно соотнести с подобной из «Преступления и наказания» Достоевского: «Огарок уже давно погасал в кривом подсвечнике, тускло освещая в этой нищенской комнате убийцу и блудницу, странно сошедшихся за чтением вечной книги». В самом соотнесении этих ситуаций запрограммировано дальнейшее композиционное развитие «Доктора Живаго»: прошлое Лары-блудницы и будущее Антипова-Стрельникова, которое заложено в предикатах «пламени свечи»- постреляло, заострилось стрелкой ». И еще: «Знаменательны в этом отношении и отчество Лары в романе Лариса Федоровна (и ее брат Родион Федорович ), и паронимическое соотнесение фамилий Раскольников и Стрельников , особенно в варианте Расстрельни-ков » [10, с. 211]. Стрельников превратил себя в оружие правоты, в меч справедливости, в бога революции, способного карать и миловать по собственному желанию: «Ясность понятий, прямолинейность, суровость принципов, правота, правота, правота. Стрельников!» Категоричное требование справедливости сближает Раскольникова со Стрельниковым и делает их жестокими по отношению к окружающим.
Интересна мысль одного исследователя, который писал, что « в образах пастернаковских индивидуалистов дописываются жанровые судьбы классических «новых» людей». «Стрельников, Гинц, Ливерий - индивидуальности, восходящие к героям типа Раскольникова, Болконского, династии «демонов» из блоковской поэмы «Возмездие» [6, с. 336]. Данный тип героя возник «в процессе художественного исследования проблемы человека на фоне обстоятельств послепетровской России» [5, с. 591]. Еще одна деталь. Герой блоковской поэмы «Возмездие», в ком «почивает некий бог» и кого «опустошает» врубелевский демон, «в снах холодных и жестоких» «видит «Горе от ума». Горе от ума - качественная особенность героя-индивидуалиста послепетровской русской культуры.
«Он славно пересмеять умеет всех; болтает, шумит, мне забавно», - Софья о Чацком. «Патуля был смешлив до слез и очень наблюдателен. Он с большим сходством и комизмом передразнивал все, что видел и слышал»,- об Антипове. «Ваш дядюшка отпрыгал ли свой век? // А этот, как его, он турок или грек? (…) А тетушка? все девушкой, Минервой? // Все фрейлиной Екатерины Первой? // Воспитанниц и мосек полон дом?» «А этот, речистый, как ты его, Пашенька? Покажи, милый, покажи. Ой, помру, ой, помру! Ни дать ни взять как вылитый». Психологический нюанс - повод задуматься об искажении, « порче» Слова. В.Розанов в своей работе, посвященной «Горе от ума», сравнил Москву Грибоедова с тетушками, арапками и моськами («Там, в самом конце комедии есть слова одной из московских старух о приобретенной ею «арапке»: да как черна, да как страшна… ») с Москвой Л.Толстого, который «после годов внимательного изучения документов и размышлений» решил написать «о той же самой эпохе и даже о тех же самых лицах»: «Вот именно такая-то (имя и отчество), которая, забирая своих арапок, дур и шутих, выезжала из Москвы с смутным сознанием, что она - Бонапарту не слуга...») [7, с. 321]. У Т. Касаткиной есть похожее наблюдение по поводу лошадки из сна Раскольникова, которая «как бы» олицетворяет страдание и несчастье этого мира, его несправедливость [4, с. 190]. Мир искажается, слова утрачивают свое отношение к реальности.
Е. Тахо-Годи в работе «Слово в романе Б.Л. Пастернака «Доктор Живаго» рассматривает «философию имени» в романе в том качестве, в каком сложилось учение о слове в трудах А.А. Мейера, М.М. Бахтина, А.Ф. Лосева: «Внимание к слову для писателя или поэта вещь сама собой разумеющаяся, но лосевское отно- шение к слову далеко не исчерпывается отношением к слову как к материалу, необходимому в работе, в творчестве. Об этом свидетельствует его «Философия имени», в которой А.Ф. Лосев рассматривал «мир как слово», и его «Диалектика мифа», где автор стремится вскрыть особую символическую сущность имени. Во многом, лосевская философия – это обширный философский комментарий к первым строкам Евангелия от Иоанна: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть» [8, с. 578-614].
В контексте романа Б. Пастернака Антипов (смертный псевдоним Стрельников) противопоставлен Живаго (иначе «сын Бога Живаго»), для которого вселенная стала родным Домом. Как пишет Е. Тахо-Годи, евангельский архетип развертывающейся «мистерии личности» Юрия Живаго от его рождения и смерти связан и с проблемой слова в романе: «Как снежный буран, лейтмотивом проходящей по всему роману и несомненно связанный и с пугачевщиной пушкинской «Капитанской дочки», и с визгливыми роями пушкинских «Бесов», вихри «трескучих фраз» заглушают «истинную музыку», которой полны были души Лары и Живаго, губят их жизни, заметают их имена. Вихри «трескучих фраз» разыгравшейся исторической мелодрамы уничтожают сказку счастья человеческого существования, эту «мистерию личности» с ее мелодией тихого слова, а «этой музыкой было слово Божие о жизни» [8, там же]. По сути, в романе Б. Пастернака «Доктор Живаго» «развертывается драма сознания, потерявшего связь со Словом, и ищущего жизни вне этой связи» [8, там же].
В романе Б. Пастернака «Доктор Живаго» «сомкнулась» прочерченная нами парабола. Мы осмысляли внутреннюю форму слова свеча – начиная от христианской традиции осмысления Софии – Логоса и заканчивая романом Б. Пастернака «Доктор Живаго». Смысловой круг личности одного героя (Раскольников), затем внутренняя связь героев века 19 и века 20 (Раскольников и Стрельников), затем внутренняя связь героев – индивидуалистов послепетровской России и, наконец, общечеловеческий контекст «драмы сознания, потерявшего связь со Словом».
Внутренняя форма слова делает слово художественное живым, полной смысла «мистерией личности».
Список литературы К осмыслению внутренней формы слова
- Аверинцев, С.С. Собрание сочинений. София-Логос. Словарь / под ред. Н.П. Аверинцевой и К.Б. Сигова. - Киев: Дух и Литера, 2006.
- Альтман М.С. Достоевский. По вехам имен. - Саратов: Саратовский университет, 1975.
- Бибихин В.В. Внутренняя форма слова. - СПб.: Наука, 2008.
- Касаткина Т.А. Священное в повседневном: двусоставный образ в произведениях Ф.М. Достоевского. - М.: ИМЛИ РАН, 2015.
- Непомнящий В.С. Пушкин. Русская картина мира. - М.: Книжный клуб Книговек, 2019.