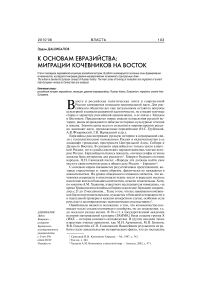К основам евразийства: миграции кочевников на Восток
Автор: Дашибалов Эрдэм Баирович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Идеи и смыслы
Статья в выпуске: 6, 2010 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена евразийской концепции российской истории. В работе анализируются основные зоны формирования кочевничества, исследуются миграции древних индоевропейских кочевников в Центральную Азию.
Российская история, евразийство, миграции, древние индоевропейцы
Короткий адрес: https://sciup.org/170165373
IDR: 170165373
Текст научной статьи К основам евразийства: миграции кочевников на Восток
В
ласть и российская политическая элита в современной России занимаются поисками национальной идеи. Для российского общества все еще актуальными остаются вопросы культурной и цивилизационной идентичности, не стихают научные споры о характере российской цивилизации, о ее связи с Западом и Востоком. Предлагаются новые модели осмысления русской истории, вновь возрождаются забытые историко-культурные течения и школы. Значительное место в сознании и мировоззрении россиян занимают идеи, предложенные евразийцами (Н.С. Трубецкой, А.В. Флоровский, Г.В. Вернадский и др.).
Евразийцы рассматривали русскую историю в неразрывной связи с геополитическим положением России и включенностью в ее ландшафт громадных пространств Центральной Азии, Сибири и Дальнего Востока. В сознании евразийцев не только земли азиатской России, но и судьбы азиатских народов являлись частью истории России. Евразийцы пытались показать, «почему скифы и гунны должны быть интересны для русского»1. Говоря о будущем степных народов, П.Н. Савицкий писал: «Народы эти должны найти свое место и свою почетную роль в общем деле России – Евразии»2.
С кочевым миром связывается ряд устойчивых представлений, которые стереотипны и, таким образом, фактически не нуждаются в доказательствах. На уровне обыденного сознания считается, что кочевники разрушали и опустошали чужие земли и вырезали местное население всегда в больших количествах, нежели земледельцы. Хотя, по мнению А.М. Хазанова, известного исследователя номадизма, «за время Тридцатилетней войны в Европе население Германии сократилось с 21 до 13 миллионов… Тезис о том, что все завоевания кочевников были опустошительными, нуждается в большей осторожности и в тщательной проверке в каждом конкретном случае, особенно если речь идет о долговременных экономических последствиях»3.
ДАШИБАЛОВ Эрдэм
Ошибочным является положение о том, что кочевничество возникает после стадии охотничьего хозяйства, но до земледелия, т.е. до оседлого уклада жизни. В 30-е гг. в Государственной академии истории материальной культуры (ГАИМК) была создана группа X (ИКС – история кочевого скотоводства). В группу входили такие известные ученые-археологи, как М.И. Артамонов, М.П. Грязнов, В.В. Гольмстейн и Г.П. Сосновский. Важнейшим результатом их работы стало доказательство исторического факта, что до господства в степях Евразии кочевников в них развивалось комплексное земледельческо-скотоводческое оседлое хозяйство1. Сейчас с этим положением согласны почти все исследователи номадизма.
К мифам следует отнести и довольно часто встречающееся утверждение о том, что азиатские степи с глубокой древности являлись родиной и катализатором миграций предков тюрко-монгольских кочевых народов, которые, двигаясь на запад, уничтожали все и вся. Это последнее положение следует рассмотреть более детально.
Сегодня ученые говорят о нескольких основных зонах формирования кочевого скотоводства. Исследователями отдается предпочтение восточноевропейским степям Днестро-Донецкого междуречья. Сюда производящее хозяйство проникло с Балкан уже в Vi–V тыс. до н.э. Примерно в это же время на юге Восточной Европы были известны крупный и мелкий рогатый домашний скот, и даже лошади. На рубеже I–III тыс. до н.э. в некоторых районах европейских степей наметилось преобладание скотоводства над земледелием. Скотоводы вели подвижный образ жизни и следовали пешими или в запряженных волами и лошадьми телегах за своими стадами, чаще всего овцами и крупным рогатым скотом. По языку эти древние скотоводы относились к древней индоевропейской общности.
Еще один центр становления кочевничества связан с Волго-Уральским междуречьем. Этот ареал также представлен древними индоевропейскими культурами. Здесь степные просторы, начинаясь на западе с Урало-Казахстанского региона, преодолев Джунгарский Алатау и хребет Тарбагатай, переходят на востоке в обширные монгольские степи. За последнее время усилиями российских и казахских археологов выявлен целый ряд памятников эпохи энеолита и бронзового века урало-казахстанских степей, в которых лошадь была уже одомашнена. В первую очередь здесь следует упомянуть памятники ботайского типа (III тыс. до н.э.), где коневодство составляло основу комплексного многоотраслевого хозяйства. В начале бронзового века (1800–1600 гг. до н.э.) именно в обществе оседлых скотово- дов возникла культура протогородов типа Аркаима. Это поселения с развитой фортификацией, с разделением площади на жилую, производственную и общественную. Археологические данные позволяют говорить, что протогорода строились по единой архитектурной традиции.
Эпоха конца ii–I тыс. до н.э. в Западной и Центральной Монголии представлена культурой курганов-херексуров и олен-ных камней, которая также соотносится с европеоидным населением западного происхождения. Н.Н. Мамонова писала: «…антропологический тип населения западных и восточных областей Монголии в эпоху неолита, энеолита и в скифское время резко отличался друг от друга. На востоке расселялись племена, принадлежавшие к монголоидной расе, на западе – европеоидной»2.
Итак, многими авторами поддерживается мнение, что кочевничество пришло в Центральную Азию с индоевропейскими культурами. «Эстафета кочевого скотоводства прокатилась по Евразии с запада на восток с конца II тысячелетия до н.э. по I тысячелетие нашей эры»3.
Обозначение лошади, по мнению лингвистов, попало в китайский (ма) и корейский (маль) языки из индоевропейских: например, английское mare – кобыла, древненемецкое mahre – кляча. Близки к ним и названия лошади в монгольском и маньчжурском языках – морь, морин, мурин. Э.Дж. Пуллибленк, известный синолог, получивший образование в Лондонском университете и долгое время преподававший китайский язык и историю Дальнего Востока в Лондоне и Кембридже, полагал, что коневодство вместе с ритуалами и религиозными представлениями, связанными с конем, были заимствованы Китаем у индоевропейского народа – тохаров. Тохары рано ушли на восток с индоевропейской прародины и не позднее II тысячелетия до н.э. продвинулись к границам Китая, приведя с собой коней и повозки. Название лошади, колесницы, имена мифологических персонажей конного культа в китайском языке восходят к тохарско- му. Китайские мифы, связанные с конем, имеют индоевропейское происхождение1.
Археологи, изучающие китайские материалы с колесницами, пришли к схожему выводу: в Китай колесницы попали, вероятнее всего, по степному коридору евразийских степей. Колесницы являются свидетельствами движения населения от Закавказья и Месопотамии до Китая и Индии. Они указывают на связи западномонгольского населения со странами Ближнего Востока. И эти связи имели не случайный характер. Все это позволяет согласиться с теми исследователями, которые говорят о том, что переход к кочевому скотоводству во Внутренней Азии связан с каким-то давлением или импульсами с запада.
Вместе с тем следует учитывать и то, что Центральная Азия могла быть районом самостоятельного одомашнивания животных, в частности лошади. Различия в основной терминологии, связанной с коневодством, у тюркских и монгольских народов могут свидетельствовать о самостоятельном характере начала приручения лошади у этих народов. Важен вывод зоологов о том, что одомашнивание лошади могло произойти везде, где имелись исходные виды2.
Академик А.П. Окладников считал, что в неолите на почве оседлой жизни в Забайкалье и Монголии мог произойти локальный процесс одомашнивания диких животных – быков и лошадей3. Японский исследователь Исида Эйитиро, поддерживая гипотезу индоиранского происхождения боевых колесниц, высказывал мысль, что искусство сражения на коне верхом являлось культурным достоянием всадников – кочевников Внутренней Азии4.
Таким образом, в iii тыс. до н.э. происходит заимствование колесной повозки из стран древневосточной цивилизации. После этого начинаются миграции индоевропейцев на восток, в азиатские степи. Причиной переселения было то, что в сравнении со скотоводством занятие земледелием в степи было малопродуктивным. Быстро разраставшееся стадо и увеличение численности населения, обусловленное хозяйственными успехами, требовали новых пастбищных территорий. Постепенно скотоводческие традиции бронзового века с западных южнорусских степей докатились до монгольских степных просторов и границ Китая и Кореи.
Изучение археологии и антропологии евразийского населения бронзового и раннего железного веков демонстрирует факт, что первыми кочевниками, связавшими степи Восточной Европы и Центральной Азии, были древние индоевропейские народы. Спустя много веков «эстафету кочевого скотоводства» принимают предки тюрко-монгольских народов.
Начиная с эпохи хунну (III–IV вв. н.э.) центральноазиатские степи становятся «генераторами народов», и теперь уже с востока на запад прокатывается несколько волн миграций кочевников – жуа-ньжуаней (аваров), тюркского каганата Ашина, монголов Чингисхана. И уже в европейских степях закладываются основы новых евразийских народов и государств. Г.В. Вернадский раннесредневековое государственное образование на территории нижнего Дона и Приазовья называет первым русским каганатом. Он пишет, что русский каганат являлся сильной державой того же типа, что и государство хазар и волжских булгар и имел главной целью контроль над важными путями международной торговли: «Из Азовского региона, как своего опорного пункта, купцы-русы путешествовали в девятом веке вплоть до Багдада»5.
С этого периода важнейшей особенностью России становится ее неразрывная связь с судьбами степных этносов.
Таким образом, евразийская концепция истории открывает современной российской общественной мысли широкие возможности для выработки национальной идеи и консолидации общества.
Работа выполнена по проекту РГНФ, грант № 08-01-00390 (Монголо-маньчжурокорейский центр исторического развития: новые подходы к «алтайской проблеме»).