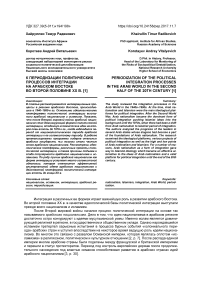К периодизации политических процессов интеграции на Арабском Востоке во второй половине ХХ в
Автор: Хайруллин Тимур Радикович, Коротаев Андрей Витальевич
Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel
Рубрика: Политика
Статья в выпуске: 11, 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются интеграционные процессы в регионе арабского Востока, происходившие в 1940-1980-е гг. Основными идеологическими платформами политической интеграции выступили арабский национализм и исламизм. Показано, что после Второй мировой войны арабский национализм стал доминирующей формой политической интеграции, отодвинув исламистские идеи на второй план вплоть до 1970-х гг., когда наблюдался переход от националистического периода арабской интеграции к ее исламистскому периоду. В работе проанализированы программы лидеров отельных арабских государств, чьи лозунги стали частью основ арабского национализма. Рассмотрены идеологические платформы, различные проекты политической интеграции, а также причины подъема и спада популярности арабского национализма и исламизма. По ряду причин арабский национализм как форма интеграции уступает место исламистской идеологии, которая становится эффективной альтернативой идеям арабского национализма и действенной платформой политической интеграции вплоть до конца ХХ в.
Национализм, исламизм, интеграция, арабский регион, периодизация
Короткий адрес: https://sciup.org/14932012
IDR: 14932012 | УДК: 327.39(5-011)6194/1989 | DOI: 10.24158/pep.2017.11.7
Текст научной статьи К периодизации политических процессов интеграции на Арабском Востоке во второй половине ХХ в
Интеграция в различных ее формах играет важнейшую роль в развитии арабского Востока. Во второй половине XX в. в качестве идеологической базы политической интеграции выступали прежде всего национализм и исламизм.
После Второй мировой войны начался процесс политической интеграции на основе так называемого арабского национализма. Дело в том, что идеи национализма в арабском регионе достаточно остро конкурируют с идеями мусульманской уммы . Именно ислам является доминирующей религией в регионе, в государственном и общественном укладе. Однако нарождавшийся исламизм претерпел серьезные испытания в процессе бурных событий «колониального периода» арабских стран и уступил впоследствии на некоторое время ведущую роль идеям национализма. Во многом это связано с развалом Османской империи, которая являлась оплотом «исламизма» в религиозном, политическом и культурном отношении [2, p. 7]. После распада единой империи многие арабские страны были поделены между французской и британской империями и перешли в статус протекторатов. Переход под контроль европейских держав после продолжительного нахождения под властью османов способствовал развитию в арабских странах идей арабского национализма [3, p. 30].
Данное обстоятельство было усилено возникновением государства Израиль, способствовавшим развитию идей о необходимости объединения арабов в единое государство, которое могло бы дать отпор Израилю и поддерживавшим его «империалистическим» державам [4, с. 322]. Это стимулировало объединение арабских стран Ближнего Востока под флагом панарабизма как единой идеи арабского национализма для всех арабов [5, с. 186]. Сочувствие и солидарность палестинцам со стороны арабского мира, а также угроза, исходившая от израильского национализма («сионизма»), достаточно явно проявились уже после первого поражения в арабо-израильской войне 1948 г. В качестве конкретных проявлений здесь можно выделить программные документы лидеров отдельных арабских государств, чьи лозунги стали частью основ арабского национализма.
Одними из наиболее успешных идеологических проектов, реализованных в рамках движения арабского национализма, были «насеристский» проект Гамаля Абдель Насера, концепция ливийской джамахирии лидера Муаммара ал-Каддафи и «самоуправленческий социализм» алжирского лидера Ахмеда бен Беллы.
Помимо всего прочего, идеи арабского национализма получили организационное оформление в лице Партии арабского социалистического возрождения (ПАСВ), более известной как Баас. Созданная 7 апреля 1947 г., данная политическая группировка приняла имя «Партия арабского возрождения»; однако, объединившись в 1954 г. с Арабской социалистической партией, она получила привычное для всех теперь название [6].
Главными идейными вдохновителями ПАСВ были Мишель Афляк (1910–1989) и Салах адДин Битар (1912–1980), которые путем изучения исторического опыта арабского мира сумели представить альтернативный исламскому вариант консолидации арабского общества.
Баас, как транснациональная партия, несла в себе арабскую националистическую идеологию, призванную создать объединенное арабское государство, которым руководила бы партия авангарда и «прогрессивное» революционное правительство. И в определенной степени теоретики баасизма вполне способствовали интеграционным процессам в арабском регионе [7, p. 60].
Однако руководство Баас полагало, что для того, чтобы произвести процесс объединения арабских государств в единое арабское государство, необходимо добиться победы национальной идеи в отдельно взятых арабских государствах. С этой целью во многих арабских государствах, таких как Сирия, Ирак, Алжир, Египет, Бахрейн, Кувейт, Иордания, Ливан, Ливия, Мавритания, Палестина, Судан, Тунис и Йемен, стали появляться отделения Партии арабского социалистического возрождения.
Особого успеха партия Баас сумела достичь в Сирии и Ираке, которые после фактического распада панарабской партии в 1966 г. на две (с центрами в Дамаске и Багдаде) стали соответственно «штабами» просирийской Баас и проиракской Баас.
Усиление процессов националистической секуляризации встречало постоянный отпор со стороны религиозных сил, за чем следовал контротпор со стороны националистов. В политическом отношении это проявилось в нескольких направлениях, одним из них стало изменение партийной системы. В государствах с приходом националистических элит установилась однопартийная система. Странами стали руководить националистические партии власти. В Египте с приходом националистов во главе с Гамалем Насером установилась однопартийная система с высшим органом власти – Советом революционного командования. Гонениям подверглась основная исламистская сила в стране – ассоциация «Братья-мусульмане» [8, p. 159]. В Тунисе с приходом Хабиба Бургибы начались глубокие социально-правовые реформы светской направленности. После запрета деятельности коммунистической партии (январь 1963 г.) в стране окончательно оформился однопартийный режим. В Алжире с обретением независимости в 1962 г. и приходом к власти Ахмеда бен Беллы была принята программа развития на основе социалистической модели и утвердилась однопартийная система в лице правящей партии – Фронта национального освобождения [9, с. 10].
В Северном Йемене в результате устроенного арабскими националистами антимонархического переворота 1962 г. началась гражданская война. В 1967 г. пришедший к власти в Южном Йемене Национальный фронт, руководимый арабскими националистами, объявил о создании Народно-Демократической Республики Йемен и выбрал в качестве вектора развития социалистическую модель. В Верховном народном совете существовали только две политические силы – просоветская и прокитайская фракции. Впоследствии власть принадлежала только одной ведущей партии – Йеменской социалистической партии.
В Сирии и Ираке с приходом к власти националистической партии Баас в 1963 и 1968 гг. соответственно другие партии (в основном левые) не имеют возможности играть существенную роль по сегодняшний день. В Ливии с приходом Муаммара ал-Каддафи и провозглашением ливийской джамахирии действие легальных политических партий прекратилось вообще.
Также изменения произошли на законодательном уровне, в особенности это коснулось конституций. Произошло усиление светских демократических начал, особенно в социалистическом ключе, и сокращение норм, прямо или косвенно относящихся к шариату и исламу в целом. Так, в конституциях Египта, Сирии, Ирака, Туниса, Алжира, Йемена, Судана была закреплена приверженность социалистическим и националистическим идеалам и максимально снижено количество норм, относящихся к исламу.
В качестве других проектов политической интеграции можно выделить создание в 1958 г. Объединенной Арабской Республики (ОАР), которая стала первой попыткой объединения арабских стран в единое государство. Помимо федеративного союза, которым являлась ОАР, в том же 1958 г. сложился конфедеративный союз. В него вошли Египет, Сирия и Йеменское Мутавак-килийское Королевство, образовав Объединенные Арабские Государства (ОАГ).
Однако созданный союз с Сирией и Йеменом не оказался продолжительным. Объединение с Сирией в рамках ОАР потерпело неудачу вследствие неравномерного развития египетской и сирийской «областей» объединенного государства. Египетская область развивалась успешнее, так как сирийская территория служила в качестве сырьевой базы египетской промышленности и рынка для сбыта ее продукции. К тому же на руководящих постах в объединенном государстве во многом преобладали египтяне, что не совсем устраивало сирийцев, которые надеялись на равномерное распределение должностей [10, с. 59]. Дезинтеграционные процессы завершились в 1961 г. военным переворотом в Сирии. Захватив власть в Сирии, военные объявили о выходе Сирии из ОАР.
В 1969 г., вскоре после захвата власти в Ливии, ее новый лидер Муаммар ал-Каддафи предложил создание Федерации Арабских Республик (ФАР), в которую бы входили Ливия, Египет и Судан. Данная инициатива была поддержана египетским лидером Гамалем Насером [11, p. 9]. Первым шагом было основание Ливией Арабского революционного фронта вместе с Египтом и Суданом. Уже в следующем году войти в состав будущей федерации выразила желание Сирия, после чего ливийская, египетская и сирийская делегации собрались для переговоров. На первых порах суданская делегация воздержалась от участия в данном проекте [12, с. 120]. Первыми результатами переговоров стало заключение Каирской хартии, анонсировавшей намерение создать Федерацию Арабских Республик.
Необходимо отметить, что параллельно с возникновением проекта ФАР Ливией была предложена система нового союзного договора с Тунисом. Так называемый проект Арабской Исламской Республики (АИР) предполагал создание федеративного государственного образования, включающего в себя как Ливию, так и Тунис [13, с. 121].
К 1989 г. был осуществлен первоначально достаточно успешный проект по созданию Союза арабского Магриба, представляющего собой международную арабскую организацию, направленную на экономическую и политическую интеграцию всех арабских стран Магриба [14, с. 269]. Однако с 2008 г. встречи на высшем уровне в рамках этого союза больше не проводились, и, хотя последующие встречи на министерском уровне выразили надежду на то, что к 2017 г. будет сформирована зона свободной торговли, последующих шагов к осуществлению данной цели так и не было предпринято [15, с. 15]. Практически прекратившееся функционирование союза дает повод рассматривать его в качестве фактически бездействующего.
Однако помимо интеграционных процессов, подразумевавших создание федеративных и конфедеративных образований, под флагами арабского национализма образовывались и так называемые военные союзы – коалиции. Во многом это выражалось в поддержке палестинского населения в борьбе против Израиля.
Движущим центром в период расцвета арабского национализма можно назвать Египет, но важную роль тогда играли также Ливия, Сирия и Алжир.
В 1970-е гг. наблюдался переход от националистического периода арабской интеграции к ее исламистскому периоду [16, p. 109], когда исламизм усилился практически во всех странах арабского региона [17, с. 6]. На этом фоне произошла заметная активизация религиозно-политических движений, направлявших свою деятельность на увеличение влияния ислама на внутреннюю и внешнюю политику арабских стран [18, p. 90].
Важной вехой на пути к усилению влияния исламистов в арабском мире стала арабо-израильская война 1973 г., когда Саудовская Аравия, претендовавшая на роль гегемона исламского мира, вместе с другими странами – экспортерами нефти фактически подняла цены на углеводородное сырье, что дало в распоряжение исламистских монархий Персидского залива колоссальные финансовые ресурсы. С другой стороны, фактическое поражение в 1973 г. арабской коалиции, возглавлявшейся националистами, привело многих арабов к окончательному разочарованию в идеях арабского национализма и социализма. Нельзя сбрасывать со счетов и то, что позиции Египта и всей арабской националистической коалиции уже были сильно ослаблены поражением в «шестидневной» войне 1967 г.
В результате интеграционные процессы в арабском регионе не утратили своей значимости, однако продолжились они не под знаменами арабского национализма. В 1970-е гг. исламистское течение одержало победу над прогрессистским национализмом, который господствовал в 50–60-е гг. ХХ в.
Важным событием, закрепившим победу исламистских идей над националистическими на Ближнем и Среднем Востоке, стало осуществление Исламской революции в Иране в 1979 г.
Свергнув «еретический» довольно-таки секуляристский шахский режим, религиозное духовенство основало Исламскую Республику, ориентированную во внешней и внутренней политике на проповеди аятоллы Хомейни.
С другой стороны, именно Саудовская Аравия перехватила эстафету арабского регионального лидера, стремящегося к интеграции арабских стран теперь уже под знаменами исламизма. Будучи хранительницей святых мест – Мекки и Медины, Саудовская Аравия с помощью роста нефтедолларов сумела укрепить консервативную исламистскую концепцию международных отношений в арабском мире.
Смешавшись с исламистскими интеллектуалами, ваххабитские улемы стали распространять идеи течения, обозначенного внешними наблюдателями как «нефтеислам»; это течение представляло собой попытки обеспечить максимально возможно строгое соблюдение в арабских странах норм исламского права в политической, культурной, морально-нравственной и других сферах.
Продвигая салафитский ислам суннитского толка, королевство финансировало и поддерживало все движения и партии, выступающие с этих позиций по всему миру вообще, но в арабских странах в особенности. Во многом это проявлялось в отправке в соседние государства религиозных миссионеров, которые распространяли труды идеологов данного направления (Ибн Абд аль-Ваххаб и Ибн Таймийя), а также финансировании строительства мечетей и мусульманских ассоциаций. Весь суннитский мир (кроме шиитов, которые считались еретиками) подвергся широкомасштабному прозелитизму, целью которого было установление салафитского ислама в качестве ведущей силы в арабском регионе [19, p. 10]. Тем самым возвышалась роль саудовской монархии как «хранительницы двух святынь».
Разразившийся «нефтяной бум», увеличивший доходы монархий Залива, привел к бурному росту возникшей в 1960-е гг. системы исламского банкинга. Необходимо отметить, что исламская финансовая система стала важным явлением, набравшим силу в период «нефтяного бума» и составившим впоследствии конкуренцию традиционной капиталистической финансовой системе.
Подъем исламистских идей вполне естественно сопровождался уменьшением роли националистических и социалистических идей на политическом уровне.
Существенные изменения коснулись партийной системы. С подъемом исламистских идей стали приниматься законы, легализовавшие исламистские партии (и тем самым нередко фактически вводившие многопартийную систему – особенно в странах, где у власти находилась националистическая элита с однопартийной системой управления).
Также серьезные изменения произошли и на законодательном уровне. Произошло ослабление светских начал и социалистических лозунгов, с параллельным увеличением норм, прямо или косвенно относящихся к шариату и исламу в целом. Так, в конституциях Египта, Сирии, Ирака, Туниса, Алжира, Йемена, Судана количество таких норм увеличилось более чем в два раза.
Таким образом, к концу ХХ в. исламизм стал доминирующим фактором в процессах политической интеграции в арабском регионе, отодвинув на второй план идеи арабского национализма.
Дальнейшие процессы, происходившие в начале ХХI в., в частности вторжение американской коалиции в Ирак и начавшийся процесс радикализации исламистских идей, который достиг своего апогея в процессе событий, запущенных трагедией «арабской весны» [20; 21; 22; 23; 24; 25], с трудом поддаются однозначной оценке и требуют самостоятельного исследования, способного установить, насколько эти события могут знаменовать начало нового периода в панарабских интеграционных процессах.
Ссылки и примечания:
-
1. Исследование выполнено при поддержке проекта РНФ «Российская политика на Ближнем и Среднем Востоке: перспективы и пределы сотрудничества со странами региона» (№ 14-18-03615).
-
2. Ahmed J.M. The Intellectual Origins of Egyptian Nationalism. N. Y., 1960.
-
3. Zeine N.Z. The Emergence of Arab Nationalism. N. Y., 1973.
-
4. Колобов О.А., Хохлышева О.О. Ислам и его значение в современном ближневосточном урегулировании // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2010. № 5-1. С. 322–326.
-
5. Воронин С.А. Этатистский (государственный) национализм как тип легитимизации политического лидерства на Востоке // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: История и политические науки. 2009. № 3. С. 185–193.
-
6. Филиппов А. «Вечное Послание», «возрождение» и «дух» в арабском национализме середины ХХ столетия // Палiтычная сфера. 2010. № 14. С. 145–158.
-
7. Salem P. Bitter Legacy: Ideology and Politics in the Arab World. Syracuse University Press, 1994.
-
8. Brown L.C. Religion and State: The Muslim Approach to Politics. N. Y., 2000.
-
9. Политические системы современных государств : энциклопедический справочник : в 4 т. Т. 4. Африка / МГИМО (У) МИД России, ИНОП ; гл. ред. А.В. Торкунов ; науч. ред. А.Ю. Мельвиль ; отв. ред. М.Г. Миронюк, А.В. Мальгин. М., 2014. 560 с. : ил.
-
10. Косач Г.Г. Арабский мир: идентичность и структура геополитического региона : сборник статей / отв. ред. Б.Г. Сейранян. М., 2012. С. 53–75.
-
11. Vandewalle D. Libya’s Revolution in Perspective 1969–2000 // Libya since 1969: Qadhafi’s revolution revisited / ed. by D. Vandewalle. N. Y. ; Basingstoke (UK), 2008. P. 9–53.
-
12. Баранов А.В. Федерализм в исламском мире // Человек. Сообщество. Управление. 2004. № 3–4. С. 112–123.
-
13. Там же. С. 121.
-
14. Федорченко А.В. Экономическая интеграция на Ближнем Востоке: достижения или упущенные возможности? // Вестник МГИМО-Университета. 2010. № 5. С. 266–274.
-
15. Ломакин Н. Союз арабских стран Магриба: результаты интеграционных планов // Мировое и национальное хозяйство. 2016. № 3. С. 1–16.
-
16. Merad A. Reformism in modern Islam // Cultures. 1977. Vol. 4, no. 1. P. 108–127.
-
17. Милославская Т.П., Милославский Г.В. Концепция «исламского единства» и интеграционные процессы в «мусульманском мире» // Ислам и проблемы национализма в странах Ближнего и Среднего Востока. М., 1986.
-
18. Долгов Б.В. Арабский мир в начале ХХI в.: между демократией и исламизмом // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность. 2009. № 5. С. 89–100.
-
19. Kepel G. Les banlieues de l'Islam: naissance d'une religion en France. Paris, 1987.
-
20. Grinin L., Korotayev A. Does «Arab Spring» Mean the Beginning of World System Reconfiguration? // World Futures. 2012. Vol. 68, no. 7. P. 471–505.
-
21. Малков С.Ю. О методике оценки текущего состояния и прогноза социальной нестабильности: опыт количественного анализа событий арабской весны / С.Ю. Малков, А.В. Коротаев, Л.М. Исаев, Е.В. Кузьминова // Полис. 2013. № 4. С. 137–162.
-
22. The Arab Spring: A Quantitative Analysis / A.V. Korotayev, L.M. Issaev, S.Y. Malkov, A.R. Shishkina // Arab Studies Quarterly. 2014. Vol. 36, no. 2. P. 149–169.
-
23. Гринин Л.Е., Коротаев А.В. Революция vs демократия // Полис. 2014. № 3. С. 139–158.
-
24. Гринин Л.Е., Исаев Л.М., Коротаев А.В. Революции и нестабильность на Ближнем Востоке. 2-е изд. М., 2016.
-
25. Арабская весна как триггер глобальной социально-политической дестабилизации: опыт систематического анализа / А.В. Коротаев, К.В. Мещерина, Л.М. Исаев, А.С. Искосков, Е.Д. Куликова, У.Д. Херн // Системный мониторинг глобальных и региональных рисков. 2016. Т. 7. С. 22–126.
Список литературы К периодизации политических процессов интеграции на Арабском Востоке во второй половине ХХ в
- Ahmed J.M. The Intellectual Origins of Egyptian Nationalism. N. Y., 1960.
- Zeine N.Z. The Emergence of Arab Nationalism. N. Y., 1973.
- Колобов О.А., Хохлышева О.О. Ислам и его значение в современном ближневосточном урегулировании//Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2010. № 5-1. С. 322-326.
- Воронин С.А. Этатистский (государственный) национализм как тип легитимизации политического лидерства на Востоке//Вестник Московского государственного областного университета. Серия: История и политические науки. 2009. № 3. С. 185-193.
- Филиппов А. «Вечное Послание», «возрождение» и «дух» в арабском национализме середины ХХ столетия//Палiтычная сфера. 2010. № 14. С. 145-158.
- Salem P. Bitter Legacy: Ideology and Politics in the Arab World. Syracuse University Press, 1994.
- Brown L.C. Religion and State: The Muslim Approach to Politics. N. Y., 2000.
- Политические системы современных государств: энциклопедический справочник: в 4 т. Т. 4. Африка/МГИМО (У) МИД России, ИНОП; гл. ред. А.В. Торкунов; науч. ред. А.Ю. Мельвиль; отв. ред. М.Г. Миронюк, А.В. Мальгин. М., 2014. 560 с.
- Косач Г.Г. Арабский мир: идентичность и структура геополитического региона: сборник статей/отв. ред. Б.Г. Сейранян. М., 2012. С. 53-75.
- Vandewalle D. Libya’s Revolution in Perspective 1969-2000//Libya since 1969: Qadhafi’s revolution revisited/ed. by D. Vandewalle. N. Y.; Basingstoke (UK), 2008. P. 9-53.
- Баранов А.В. Федерализм в исламском мире//Человек. Сообщество. Управление. 2004. № 3-4. С. 112-123.
- Федорченко А.В. Экономическая интеграция на Ближнем Востоке: достижения или упущенные возможности?//Вестник МГИМО-Университета. 2010. № 5. С. 266-274.
- Ломакин Н. Союз арабских стран Магриба: результаты интеграционных планов//Мировое и национальное хозяйство. 2016. № 3. С. 1-16.
- Merad A. Reformism in modern Islam//Cultures. 1977. Vol. 4, no. 1. P. 108-127.
- Милославская Т.П., Милославский Г.В. Концепция «исламского единства» и интеграционные процессы в «мусульманском мире»//Ислам и проблемы национализма в странах Ближнего и Среднего Востока. М., 1986.
- Долгов Б.В. Арабский мир в начале ХХI в.: между демократией и исламизмом//Восток. Афро-азиатские общества: история и современность. 2009. № 5. С. 89-100.
- Kepel G. Les banlieues de l'Islam: naissance d'une religion en France. Paris, 1987.
- Grinin L., Korotayev A. Does «Arab Spring» Mean the Beginning of World System Reconfiguration?//World Futures. 2012. Vol. 68, no. 7. P. 471-505.
- Малков С.Ю. О методике оценки текущего состояния и прогноза социальной нестабильности: опыт количественного анализа событий арабской весны/С.Ю. Малков, А.В. Коротаев, Л.М. Исаев, Е.В. Кузьминова//Полис. 2013. № 4. С. 137-162.
- The Arab Spring: A Quantitative Analysis/A.V. Korotayev, L.M. Issaev, S.Y. Malkov, A.R. Shishkina//Arab Studies Quarterly. 2014. Vol. 36, no. 2. P. 149-169.
- Гринин Л.Е., Коротаев А.В. Революция vs демократия//Полис. 2014. № 3. С. 139-158.
- Гринин Л.Е., Исаев Л.М., Коротаев А.В. Революции и нестабильность на Ближнем Востоке. 2-е изд. М., 2016.
- Арабская весна как триггер глобальной социально-политической дестабилизации: опыт систематического анализа/А.В. Коротаев, К.В. Мещерина, Л.М. Исаев, А.С. Искосков, Е.Д. Куликова, У.Д. Херн//Системный мониторинг глобальных и региональных рисков. 2016. Т. 7. С. 22-126.