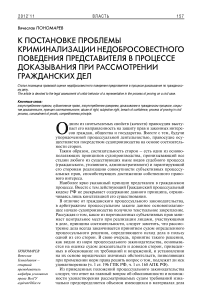К постановке проблемы криминализации недобросовестного поведения представителя в процессе доказывания при рассмотрении гражданских дел
Автор: Пономарев Вячеслав Геннадиевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Право
Статья в выпуске: 11, 2012 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена правовой оценке недобросовестного поведения представителя в процессе доказывания по гражданскому делу.
Лоупотребление правом, субъективное право, злоупотребление доверием, доказывание в гражданском процессе, сокрытие доказательств, принцип состязательности
Короткий адрес: https://sciup.org/170166162
IDR: 170166162
Текст научной статьи К постановке проблемы криминализации недобросовестного поведения представителя в процессе доказывания при рассмотрении гражданских дел
О дним из неотъемлемых свойств (качеств) правосудия выступает его направленность на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства. Вместе с тем, будучи упорядоченной процессуальной деятельностью, правосудие осуществляется посредством судопроизводства на основе состязательности сторон.
Таким образом, состязательность сторон – есть один из основополагающих принципов судопроизводства, пронизывающий все стадии любого из существующих ныне видов судебного процесса (гражданского, уголовного, административного) и гарантирующий его сторонам реализацию совокупности субъективных процессуальных прав, способствующих достижению собственного правового интереса.
Наиболее ярко указанный принцип представлен в гражданском процессе. Вместе с тем действующий Гражданский процессуальный кодекс РФ не раскрывает содержание данного принципа, ограничиваясь лишь констатацией его существования.
ПОНОМАРЕВ
Вячеслав
Геннадиевич –
В отличие от гражданского процессуального законодательства, в арбитражном процессуальном законе данное основополагающее начало судопроизводства получило текстуальное закрепление. Рассуждая о том, какое из перечисленных субъективных прав занимает центральное место при реализации лицами, участвующими в деле, принципа состязательности, следует заметить, что рассмотрение дела всегда заканчивается принятием судом определенного процессуального решения, определяющего исход дела в пользу одной из его сторон. В свою очередь, принятие такого решения, как видно из норм процессуального законодательства, основывается на оценке судом доказательств и доводов сторон, приведенных в обоснование их требований и возражений, и установлении на их основе юридически значимых обстоятельств, позволяющих при применении норм права решить вопрос о том, подлежит ли иск удовлетворению (ч. 1 ст. 196 ГПК РФ, ч. 1 ст. 168 АПК РФ).
Из приведенных положений процессуального законодательства следует, что ответ на главный вопрос об обоснованности и возможности удовлетворения рассматриваемых судом требований изначально предопределяется объемом имеющихся в материалах дела доказательств, на основе которых суд устанавливает обстоятельства дела и которые влияют на выбор судом норм права, подлежащих применению к конфликтным правоотношениям сторон.
При этом в силу требований ст. 56 ГПК РФ, ст. 65 АПК РФ бремя доказывания обстоятельств, приведенных участвующими в деле лицами в обоснование своих требований или возражений, возлагается на этих же лиц.
Изучение рассмотренных гражданских дел показало, что в последние годы суды не стремятся устанавливать абсолютную и объективную истину при рассмотрении гражданских дел, не проявляют должной активности в сборе доказательств с целью установления обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения спора. При таких обстоятельствах состязательность гражданского судопроизводства сводится к усилиям участвующих в деле лиц, направленным на сбор и представление суду доказательств по делу, а роль суда в процессе ограничивается оценкой представленных доказательств.
Таким образом, центральное место при реализации лицами, участвующими в деле, принципа состязательности занимает приведение ими доводов в обоснование своих требований и возражений и представление ими суду доказательств, подтверждающих эти доводы.
Право лиц, участвующих в деле, на приведение доводов относительно существа рассматриваемого дела и представление доказательств, их подтверждающих, закреплено в ст. 35 ГПК РФ, ст. 41 АПК РФ. Указанные нормы, кроме того, содержат требование об обязательности добросовестного пользования данными лицами предоставленными им процессуальными правами.
В то же время приведение суду доводов в обоснование заявленных требований и возражений и представление доказательств являются процессуальными действиями, поскольку их осуществление облечено в определенную процессуальную форму. Отсюда риски и неблагоприятные последствия, связанные с несовершением таких действий, также несут лица, участвующие в деле (ч. 2 ст. 9 АПК РФ). Очевидно при этом, что самым неблагоприятным последствием несовершения подобных действий является принятие судом решения в пользу лица, имеющего прямо противоположный интерес относительно предмета спора.
Анализ результатов рассмотрения судами и арбитражными судами дел в порядке искового производства позволяет утверждать, что в подавляющем большинстве случаев результатом принятия итогового судебного акта в пользу одной из сторон послужила недоказанность другой стороной определенных обстоятельств, имеющих существенное значение для дела.
Бесспорно, что такой исход дела для одной из сторон, обусловленный ее бездействием (вне зависимости от осознания такового), с учетом положений ч. 2 ст. 9 АПК РФ является закономерным. Очевидно и то, что в результате вынесения судебного акта для «проигравшей» стороны наступают разнообразные неблагоприятные последствия. Между тем, как показывает практика, такой исход дела для стороны в большинстве случаев обусловлен отнюдь не ее собственным процессуальным поведением, а бездействием представителя.
Действующее гражданское и арбитражное процессуальное законодательство предусматривает право лиц на ведение своих дел в суде как лично, так и через представителей. При этом одни лица (руководители организаций, родители, опекуны, попечители) осуществляют представительство в силу закона, полномочия других удостоверяются выданной лицом, участвующим в деле, доверенностью.
Изучение действующего законодательства позволяет заключить, что представительство в гражданском процессе заключается в деятельности поверенного (представителя), осуществляемой им от имени и исключительно в интересах доверителя (представляемого), по представлению интересов последнего при рассмотрении судом гражданского дела. Не случайным при этом выглядят содержащиеся в процессуальном законодательстве положения о том, что представитель может обладать всем объемом субъективных гражданских процессуальных прав, принадлежащих лицу, участвующему в деле (ст. 54 ГПК РФ, ст. 62 АПК РФ).
Казалось бы, с внешней стороны указанное выше бездействие представителя укладывается в рамки дозволенного процессуальным законом субъективного права лица, участвующего в деле, самостоятельно определять, какие доводы и доказательства в их обоснование следует представить суду, а какие – нет.
Изложенное обусловливает постановку вопроса о правовой оценке поведения лиц, которые, действуя в гражданском процессе в качестве представителей, умышленно отказываются от реализации представленных лицам, участвующим в деле, процессуальных прав приводить доводы и представлять доказательства, что закономерно влечет принятие судом решения не в пользу представляемых ими лиц, порождающего у этих лиц обязанности материального содержания. Стоит, однако, оговориться, что постановка данной проблемы является уместной, когда объективная правовая ситуация при разрешении конфликта указывает на перспективность представления интересов лица, участвующего в деле (обоснованная вероятность удовлетворения иска или же действенность защиты против иска), поскольку, как правильно заметил А.В. Юдин, даже самый высококвалифицированный юрист бессилен в юридически безнадежной ситуации1.
Характеризуя описанное деяние, следует выделить ряд присущих ему черт (признаков).
Во-первых, с точки зрения формы совершения деяния такое поведение представителя характеризуется его бездействием. Здесь имеется в виду отказ представителя представить суду доказательства в обоснование заявленных им от имени доверителя требований или же возражений (сокрытие доказательств) либо неприведение им доводов относительно юридически значимых обстоятельств дела при наличии реальной возможности совершить указанные действия.
Во-вторых, описанное бездействие свидетельствует о недобросовестном использовании представителем предоставленных ему процессуальных прав, что указывает на правонарушающий характер поведения представителя. Отсюда такое деяние следует считать противоправным.
В-третьих, подобное деяние всегда препятствует установлению истины по делу и существенно искажает объективность и истинность результатов рассмотрения дела, поскольку не дает возможности суду установить все обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, и применить тем самым соответствующие нормы права, что в конечном итоге делает невозможным достижение целей правосудия. Данное обстоятельство усугубляется еще и тем, что процессуальное законодательство содержит запрет на представление лицами, участвующими в деле, новых доказательств при рассмотрении данного дела в судах вышестоящих инстанций.
В-четвертых, результатом такого отношения к своим процессуальным правам является возникновение у лица, участвующего в деле, определенных обязанностей, выполнение которых предписано постановленным по делу судебным актом.
В-пятых, последствия в виде вытекающих из судебного акта обязанностей доверителя (представляемого) причинно связаны с бездействием представителя.
Отличительной особенностью недобросовестного поведения представителя является и то, что оно (поведение) искажает существо представительских отношений, а интересы представителя прямо противоположны интересам представляемого им лица2.
Приведенные признаки описанного выше поведения представителя в гражданском процессе позволяют рассматривать его как общественно опасную специфическую форму злоупотребления представителем субъективным гражданским процессуальным правом (злоупотребление доверием).
Сказанное позволяет задуматься о достаточности существующих в действующем уголовном законе правовых запретов для предупреждения совершения подобных деяний.
На первый взгляд, признаки описанного деяния вполне укладываются в конструкцию состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием».
Вместе с тем, как показывает практика рассмотрения судами дел о преступлениях, предусмотренных ст. 165 УК РФ, обязательным признаком объективной стороны описанных в этой статье посягательств является извлечение виновным имущественных выгод за счет потерпевшего, а с субъективной стороны ука-занные посягательства характеризуются корыстной целью1.
Мнение об обязательности данных при -знаков в указанном составе преступления разделяется и некоторыми учеными2.
В рассматриваемом же случае предста-витель не получает какой либо выгоды и не преследует цели незаконно приобрести имущество за счет представляемого им лица. Корысть здесь является не целью, а мотивом совершения деяния.
Кроме того, соглашаясь с мнением Н.А. Лопашенко, следует признать, что ущерб в составе, предусмотренном ст. 165 УК РФ, характеризуется неполучением должного или упущенной выгодой3, в то время как последствия анализируемого посягательства в равной степени предпо лагают как причинение прямого ущерба (взыскание с ответчика денежной суммы, возложение на ответчика обязанности передать имущество истцу), так и неполу-чение должного (отказ истцу в присужде нии взыскиваемой суммы и т.д.).
Изложенные мотивы в своей совокуп -ности позволяют заключить, что рассма триваемое общественно опасное деяние представителя в гражданском процессе не может быть квалифицировано по ст. 165 УК РФ.
При определенных обстоятельствах содеянное представителем может образо вывать признаки коммерческого подкупа. Это, прежде всего, относится к случаям получения представителем организации незаконного вознаграждения от лиц, име ющих противоположный интерес в исходе рассматриваемого дела, за бездействие, выраженное в пассивном поведении при рассмотрении гражданского дела судом.
Пункт «в» ч. 4 ст. 204 УК РФ устанавли-вает ответственность за незаконное полу чение лицом, выполняющим управленче ские функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а равно незаконное пользова ние услугами имущественного характера или другими имущественными правами за совершение незаконного бездействия в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением.
Как видно из приведенного уголовно правового запрета, ответственность за совершение описанного в нем деяния могут нести лишь лица, обладающие спе циальными признаками. В этой связи, думается, наличие у представителя органи-зации в гражданском процессе признаков специального субъекта, характерных для субъекта коммерческого подкупа, следует из самого факта его участия в процессе на основании доверенности, содержащей весь объем гражданской процессуальной правоспособности организации как лица, участвующего в деле.
Между тем, из диспозиций ч. 3,4 ст. 204 УК РФ следует, что содержащиеся в них составы преступления сконструированы по типу формальных, ответственность за совершение которых наступает вне зави симости от наступления последствий.
Следовательно, обязательный признак исследуемого посягательства в виде при чинения имущественного ущерба дове рителю при квалификации содеянного представителем по п. «в» ч. 4 ст. 204 УК РФ находится за пределами состава пре ступления и какой либо правовой оценки не получает. Не охватываются указанной нормой и случаи совершения подобных деяний представителями физических лиц.
Весьма полезен в этой связи опыт уго л овного законодательства некоторых европейских государств.
В УК Республики Сан-Марино, в частности, содержится норма об ответ ственности за нечестную защиту в суде4. Согласно ст. 354 данного нормативного акта, адвокат, прокурор или техниче ский эксперт, которые умышленно бла гоприятствуют противной стороне либо умышленно определяют в ущерб своим клиентам утрату права, отсутствие пред мета спора либо права на упоминание в судебном решении, подлежат наказа нию в виде денежного штрафа в лирах и в виде запрета на профессию четвертой степени.
Такому же наказанию подлежат адвокат, прокурор или технический эксперт, которые оказывают свое покровительство либо дают консультацию, а также оказывают помощь посреднику, представляющему в данный момент противную сторону.
Кроме того, в УК Республики СанМарино имеется специальный уголовноправовой запрет на сокрытие доказательств. В соответствии со ст. 361 названного Кодекса, именуемой «Уничтожение или изменение доказательств», всякое лицо, которое, за исключением случаев совокупности преступлений, умышленно пытаясь ввести в заблуждение судью, изменяет состояние места, вещей или лиц, которые могут быть освобождены от проверки или судебного эксперимента, либо уничтожает, изымает или скрывает любой предмет или часть доказательства, подлежит наказанию в виде тюремного заключения второй степени.
Схожее по своим признакам описание недобросовестного поведения представителя в процессе находим и в нормах УК Испании, ст. 467 которого предусматривает ответственность за предоставление адвокатом или прокурором совета или принятие на себя защиты или представительства другого лица без согласия лица, которого они защищают или представляют по этому же делу с противоположными интересами, а также за причинение этими лицами вреда интересам, которые им доверены 1.
Своеобразием в борьбе с исследуемым явлением отличается Уголовное законодательство Норвегии. Здесь ответственность за недобросовестное поведение доверенного лица, выраженное в нарушении возложенных на него обязанностей, предусмотрено в гл. 26, именуемой «Мошенничество и нарушение доверенным лицом своих обязанностей». Так, в § 275 Уголовного законодательства Норвегии сказано: «За нарушение доверенным лицом обязанностей подлежит наказанию тот, кто с целью получения для себя или другого незаконной прибыли или нанесения ущерба пренебрегает делами, которыми он призван управлять или следить, или действует против интересов другого лица»2.
Приведенные нормы зарубежных уголовных законов наглядно иллюстрируют нетерпимость европейского сообщества к недобросовестному поведению представителя в судебном процессе, выраженному во всевозможных формах злоупотребления им имеющимися процессуальными правами.
Сказанное заставляет задуматься о необходимости конструирования в действующем УК РФ самостоятельной нормы об ответственности за злоупотребление гражданским процессуальным правом представителей лиц, участвующих в деле.
Статья подготовлена при поддержке РГНФ, проект № 12-03-00656.