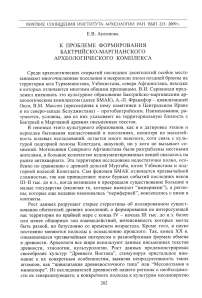К проблеме формирования Бактрийско-Маргианского археологического комплекса
Автор: Антонова Е.В.
Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran
Статья в выпуске: 223, 2009 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14328015
IDR: 14328015
Текст статьи К проблеме формирования Бактрийско-Маргианского археологического комплекса
К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ БАКТРИЙСКО-МАРГИАНСКОГО АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
Среди археологических открытий последних десятилетий особое место занимают многочисленные поселения и некрополи эпохи поздней бронзы на территории юга Туркменистана, Узбекистана, севера Афганистана, находки в которых отличаются многими общими признаками. В.И. Сарианиди предложил именовать это культурное образование Бактрийско-маргианским археологическим комплексом (далее БМАК), А.-П. Франкфор - цивилизацией Окса, В.М. Массон (присоединяя к нему памятники в Центральном Иране и на северо-западе Белуджистана) - протобактрийским. Наименования, разумеется, условны, два из них указывают на территориальную близость с Бактрией и Маргианой древних письменных текстов.
В генезисе этого культурного образования, как и в датировке этапов и периодов бытования напластований в поселениях, несмотря на масштабность полевых исследований, остается много неясного, хотя связь с культурой подгорной полосы Копетдага, анауской, ни у кого не вызывает сомнений. Могильники Северного Афганистана были разграблены местными жителями, и большое количество недокументированных вещей оказалось на рынке антиквариата. Эта территория исследована недостаточно полно, особенно по сравнению с древней дельтой Мургаба, югом Узбекистана и подгорной полосой Копетдага. Сам феномен БМАК отличается чрезвычайной сложностью, так как принадлежит эпохе бурных событий последних веков Ш-П тыс. до н.э., когда возникали и прекращали существование большие и малые государства (включая те, которые именуют “империями”), а регионы, которые еще недавно именовались “периферией”, вовлекались с ними в контакты.
Рост данных разрушает старые стереотипы об изолированном существовании обитателей древних поселений, о формировании на интересующей нас территории по крайней мере с конца IV - начала III тыс. до н.э. более или менее обширных зон взаимодействий, интенсивность которых могла быть разной, но безусловно со временем возрастала. Кроме того, в науке постоянно меняются подходы к осмыслению прошлого. Так, конец XX в. ознаменовался чрезвычайным интересом к разнообразным формам обмена в древности. Археологи все шире используют данные письменных текстов древности, этнологии, культурологии. Рост данных продемонстрировал своеобразие культур “Древнего Востока”, стимулируя пристальное внимание к их конкретным особенностям, выявляя непродуктивность таких штампов, как “цивилизация древневосточного типа” или “Месопотамия в миниатюре”. Из исследователей древностей нашего региона о необходимости не генерализующего, а конкретного подхода к культурам неоднократно писали, в частности, А.-П. Франкфор {Francfort, 2005), а также К. Ламберг-Карловский (1994).
Всем, кто хотя бы в малой степени знаком с проблемами формирования археологических общностей на территории БМАК, известны разногласия между сторонниками миграций (их самый яркий представитель - В.И. Са-рианиди, сделавший так много для исследования этого феномена) и их противниками. В.И. Сарианиди согласен с тем, что “в общей форме” между комплексами подгорной полосы Копетдага и обнаруженными на территории БМАК существует сходство, но одновременно указывает, что наряду с местными южнотуркменистанскими традициями велико, и со временем увеличивается, число связей, “уходящих в соседний Иран” {Сарианиди, 1990. С. 74-75). В более поздних работах не только из-за общетеоретических соображений, но и под давлением новых добытых его трудом и трудом его сотрудников материалов он все более утверждается в идее широкого племенного расселения в Центральную Азию в начале II тыс. до н.э.: сюда “хлынула волна арийских племен” {Сарианиди, 1994. С. 20).
Цель настоящей статьи - попытка выявить существенные моменты внутреннего развития культуры на юге Туркменистана и в соседних областях, проследить трансформацию некоторых ее элементов, нашедших воплощение и в культуре БМАК. Представляется очевидным, что по крайней мере с IV тыс. до н.э. обитатели этих земель находились в более или менее тесных контактах с соседями. Вначале хотелось бы остановиться на нескольких общих положениях. Как происходили взаимоотношения с теми, кого принято считать коренными обитателями и пришельцами на Древнем Востоке? Что происходило с культурой (в широком смысле) тех и других?
Говоря о полном вытеснении пришельцами местного населения, И.М. Дьяконов замечал, что это возможно только в условиях численного и материально-культурного превосходства пришельцев. “Трудно представить себе, например, чтобы древнейшие индоевропейцы шли, как танк, по Европе и Азии, сметая местное население. Недаром антропологически современные индийцы-арийцы практически неотличимы от их предшественников (видимо, дравидов), создавших культуру Мохенджо-Даро. На самом деле происходит не вытеснение, а слияние этносов... может сохраниться и (редко) даже весь комплекс материальной культуры, но сменится язык” {Дьяконов, 1995. С. 118). И в другой работе: “...арийское завоевание Индии в действительности было для нее не столько завоеванием, сколько мирным проникновением... Доарийское население долины Инда было не истреблено, а ассимилировано” {Арутюнов, Рыжакова, 2004. С. 135). Пришельцы в Месопотамии - аккадцы, амореи, арамеи не оставили археологических следов, хотя первая и третья волны привели к полной смене языков. Касситское завоевание оставило ничтожные следы, а следы появления хеттов в Малой Азии не прослеживаются {Дьяконов, 1971. С. 146, примеч. 16).
Таким образом, субстратные явления в культурах должны сохраняться и в случае прихода носителей иного этноса. Поэтому представляется целесообразным выявить их на территориях, близких распространению БМАК, не исключая возможности воздействий и из соседних регионов.
Такой территорией была подгорная полоса Копетдага и прилегающих областей, где на протяжении почти четырех тысячелетий, начиная с V тыс. до н.э., существовала анауская культура. По традиционной периодизации -это периоды Намазга I—VI (далее - НМЗ I-VI). Анауская культура - одна из самых изученных раннеземледельческих культур Востока. Обильные и полно опубликованные материалы позволяют проследить развитие традиций и выявить характерные именно для этого региона признаки, которые в новых формах обнаруживаются в культуре БМАК. Стремясь проследить генезис культуры поздней бронзы, можно выйти на более широкую задачу: попытаться определить некоторые характерные признаки облика культуры обширного региона, присущего ей “текста”, начавшего складываться по крайней мере в начале энеолита, разворачивавшегося и обогащавшегося на протяжении тысячелетий благодаря как внутренним импульсам, так и разнообразным воздействиям.
Анауская культура возникла на основе неолитической джейтунской культуры, селения которой занимали небольшую часть подгорной полосы Копетдага. Не исключено родство “джейтунцев” с обитателями севера Ирана. Как и у их преемников, условием существования земледелия служили небольшие речки, ручьи и сезонные водотоки; занимались также скотоводством и охотой. Складывается комплекс элементов, присущих носителям хозяйственно-культурного типа зоны сухих субтропиков. На протяжении энеолита она распространяется на значительные территории благодаря свойственному оседлым земледельцам и скотоводам быстрому росту населения.
Исследователям в ходе многолетних кропотливых работ удалось выявить особенности культуры обитателей разных областей подгорной полосы и своеобразных черт культуры различных поселений, что естественно для традиционных сообществ, в жизни которых сочетаются изоляционизм и необходимость общения. В.М. Массон полагает, что анауская культура завершается в энеолите, с окончанием периода Намазга III. Этому могут быть найдены подтверждения. Тем не менее, не только в энеолите, но и в значительной мере в эпоху бронзы население подгорной полосы и их соседи представляли единый мир. Подвижности населения способствовало использование одомашенного верблюда (Л/ассон, 1989. С. 146), которому пришлось сыграть значительную роль в осуществлении контактов на далекие расстояния.
В течение раннего и среднего энеолита (НМЗ I—II) прослеживается тенденция к переходу от однокомнатных к многокомнатным жилищам, при этом на некоторых поселениях обнаружены предполагаемые святилища с красной и черной росписью (Энеолит СССР, 1982. С. 21-22, 28, 31-33). Погребения одиночные, располагаются на территории поселений. Тела клали скорченно в основном на боку; инвентарь небогат.
В энеолите металлические изделия были редкими; материал - медь с естественными примесями. Примечательно, что еще на памятниках раннего энеолита зафиксированы единичные находки лазурита (Энеолит СССР, 1982. С. 20). Керамические сосуды раннего и среднего энеолита лепные, простых форм, украшены черной, также простой геометрической росписью.
Антропоморфная скульптура представлена фигурками женщин в сидячей позе с массивными формами и нанесенными краской деталями.
Исследователи этих двух периодов не усматривали свидетельств интенсивных контактов с соседями, хотя и указывали на некоторое сходство орнаментов сосудов с обнаруженными в Месопотамии и Юго-Западном Иране (Средняя Азия..., 1966. С. 126-127). Судя по всему, это было время доминирования внутренних связей, приводивших к появлению новых явлений в культуре; внешние контакты были относительно редкими. Иной была ситуация в позднем энеолите, и на то были свои, и чрезвычайно веские, причины.
Культура эпохи НМЗ III (последняя треть IV - начало III тыс. до н.э.) демонстрирует явные признаки роста жизнеспособности ее создателей. Постоянная беда экологии Южного Туркменистана - миграция водных источников, их истощение в связи с орошением, вероятно, засоление почв - наряду с ростом населения заставляли людей оставлять насиженные места в поисках новых земель. Важный индикатор таких перемещений - сосуды с орнаментами так называемого геоксюрского стиля, черно-красными геометрическими узорами, в которых заметную роль играют крестообразные мотивы и их модификации, но встречаются изображения козлов, антропоморфных существ. Сосуды с таким орнаментом обнаружены в Таджикистане (Саразм близ Пенджикента). На систанском (Восточный Иран) поселении Шахр-и-Сохте в нижних горизонтах от 20 до 30% расписной керамики обнаруживают сходство с ней, а также карадепинской (о ней см. ниже). Такая керамика найдена также на севере Белуджистана (Кветта) и на юге Афганистана (Мундигак, Саид-Кала, Дех-Мораси Гхундай). Отмечается и некоторое сходство антропоморфных фигурок Шахри Сохте и анауских периода НМЗ III (Антонова, 1977. С. 67).
Объясняя эти явления, В.М. Массон заключает: “Механизм этого воздействия в значительной мере, видимо, был связан с прямым расселением оседлых общин, члены которых, как и привнесенные ими традиции, постепенно инкорпорировались местной средой, хотя и образовывали на первых порах, как это показывают материалы Шахр-и-Сохте, обособленные группы” (Массон, 1989. С. 153).
Керамическая орнаментация Кара-Депе, относимого к центральной группе анауских поселений, несколько отличается от геоксюрской, восточной. Здесь тоже фиксируются геометрические мотивы, но кроме них - изображения козлов, пятнистых хищных животных (условно “барсов”), хищных птиц (“орлов”) с простертыми крыльями и каких-то крупных нехищных птиц. Встречаются круги с точками, которые традиционно именуют солярными. Аналогии орнаментальным мотивам обнаруживали в Гиссаре IB-ПА, Сиал-ке III 4-7, Фарсе и т.д. (Masson, Sarianidi, 1972. Р. 76, 84).
Как это нередко бывает при изучении археологических остатков, массовый материал, мелкие вещи и их фрагменты оказываются носителями в определенном смысле (и до поры до времени) большей информации, чем жилища и даже многочисленные погребения. Для общей характеристики периода НМЗ III следует, тем не менее, отметить, что планировка много- комнатных жилищ становится относительно однообразной, в отдельных помещениях размещаются очаги, в том числе вероятно ритуальные дисковидные с углублением в центре (такие, что примечательно, были обнаружены в Саразме). Благодаря тщательным раскопкам в поселении среднего энеолита Илгынлы-депе неподалеку от широко известного Алтын-депе удалось реконструировать облик домашних святилищ, так называемых “парадных комнат”, в убранстве которых использовались черная, белая, красная краска, рельефные изображения змей и протом быка. Характерная особенность - эти помещения подвергались специальному разрушению (такие случаи были зафиксированы и в других поселениях этой эпохи (Энеолит СССР, 1982. С. 46, 48)) и сожжению. При этом хранившиеся в них ритуальные вещи, в частности антропоморфные изображения, ломали (Соловьева, 2005). В таких помещениях находились особым образом оформленные глиняные скамьи, а во дворе - парадные “стулья” и крупные сосуды для хранения общественных припасов.
Изменения претерпевают погребальные сооружения: появляются кирпичные камеры округлой формы с множественными захоронениями, что указывает на существование многосемейных общин, обитавших в многокомнатных домах. Аналогии им усматривали на юге Ирана (Сарианиди, 1965). По мнению В.М. Массона, северная ориентировка умерших появляется в позднем энеолите, чтобы затем стать доминирующей в эпоху бронзы. Хочется заметить, однако, что выдерживать определенную ориентировку обычно начинают в пору существования изолированных некрополей, которых в это время еще не было (хотя на Шахр-и-Сохте такой некрополь был с самого начала).
Заметен прогресс в земледелии - появляются каналы. В скотоводстве на Геоксюре и Алтын-депе прослеживается увеличение поголовья мелкого скота и особенно овец, что позволило предположить существование отгонного скотоводства (Массон, 1989. С. 149). На Алтын-депе найдены модели не только колес, но и одноосных повозок (Кирчо, 2004. С. 150), - еще одно подтверждение использования, по всей видимости, верблюдов.
Естественно предположить, что в это время складывается жизнеспособная и пластичная система общественных отношений, основу которой составляет семейная или большесемейная община. Их объединения на родственной основе (в частности, именуемые “коническими кланами”) могли представлять действенную силу при решении всякого рода проблем, в том числе острых, связанных с оставлением прежних селений и перемещениями на новые места (Березкин, Соловьева, 1996. С. 116, модель 117). Было высказано мнение, что отношения между обитателями территорий от юга Туркменистана до долины Инда в III и даже начале II тыс. до н.э. складывались в основном мирно (Tosi, 1973. Р. 493). Тем не менее, следы обводных стен относят еще к среднему энеолиту, а в позднем на Алтын-депе строят стену с башнями (Массон, 1989. С. 149).
Важные изменения происходят в такой информативной с разных точек зрения категории вещей, какой является антропоморфная пластика. Наряду с сохранением некоторых традиций предшествующей эпохи, появляются новые черты: широкие прямые плечи, контрастирующие с тонкими талиями и узкими бедрами, прически из налепных элементов, головные уборы цилиндрической формы, сложенные на животе кисти рук. Достаточно многочисленны мужские фигурки с бородами. На нескольких поселениях найдены так называемые “головки воинов” в шлемах с выпущенной косой, трактовка которых позволила предположить, что они оттискивались в формочках. По мнению И.Н. Хлопина, ряд признаков мужских статуэток указывает на влияние со стороны обитателей Западного Ирана (Хлопин, 1960). В.М. Массон предположил, что многие признаки этих фигурок появились под влиянием пластики убейдской культуры юга Месопотамии (Массон, 1962). Возможны и более поздние воздействия скульптуры Месопотамии на пластику этого времени (Антонова, 1977. С. 75).
Существование относительно многочисленных фигурок мужского пола позволяет думать, что в эту эпоху возрастает социальная роль мужчин. Это могло происходить в связи с усложнением форм деятельности, прогрессом в сфере ирригации, необходимостью поисков новых земель. Важно, что именно к эпохе позднего энеолита относятся первые находки глиняных булл с оттисками печатей, делавшихся из обожженной глины и имевших рельефный крестообразный узор (Кирчо, 1990. С. 176). Позднее печати-штампы станут одним из характерных признаков бронзового века. Их появление можно рассматривать как свидетельство операций обмена, в котором мужчины играют значительную роль. Впрочем, в эпоху бронзы печати часто встречаются в погребениях женщин.
А.-П. Франкфор пишет, что конец IV - первая половина III тыс. до н.э., поздний энеолит, - период сложения предпосылок формирования БМАК (Francfort, 2005). Действительно, в это время определяется целый ряд характерных для последующих эпох признаков. Характерна широта контактов с регионами от юга Таджикистана до востока Ирана и севера Белуджистана.
Традиционен для обществ энеолита и бронзы высокий статус женщин и семейно-родовых покровительниц. В обрядах, как это присуще земледельцам, по всей вероятности, важную роль играют действия и представления, связывающие плодовитость людей и плодородие в мире природы. Визуализируются некоторые знаки, определяющие образ мира - крестообразные фигуры и их модификации, растения, образы животных - козлы, хищники (“барсы”), птицы, в том числе хищные, быки, змеи. Особенно распространенными становятся крестообразные мотивы, рельефные изображения которых помещались и на печати и подвески. Эти вещи - предшественники столь характерных для бактрийско-маргианских металлических печатей. Подобные образцы известны и в материалах Шахр-и-Сохте, что побудило П. Амье предположить их возникновение на этом поселении. Однако он допускал и их южнотуркменистанское происхождение (Amiet, 1986. Р. 183). Крестообразные мотивы, вообще чрезвычайно распространенные в древнеземледельческой ойкумене, известны, в частности, в стенописи прото-эламского времени из Тали Мальяна (Amiet, 1986. Р. 52). Не исключено, что они имитируют ковровые узоры. Аналогии между орнаментами геоксюр- ского стиля и ковровой орнаментикой туркмен проводились неоднократно {Царева, 2004).
Короче говоря, есть основания заключить, как справедливо отметил А.-П. Франкфор, что в эту эпоху культура обретает те формы, которые в обогащенном виде воплотятся в БМАК, блестящей, по словам многих исследователей, цивилизации.
Нет сомнений, что “анаусцы” позднего энеолита были вынуждены расширять зону обитания из-за ограниченности возможностей жизни на старых территориях. Эти события пришлись на эпоху интенсивных контактов на территориях, которые П. Амье назвал “Внешним Ираном”, контактов, связанных с возникновением цивилизаций на юге Месопотамии и в соседней с ней Сузиане. Потребности сложноструктурированных образований, нуждавшихся в металле, минералах и другом сырье для поддержания устойчивости уже неоднородного общества, вызвали движение от них к источникам сырья. Вероятно, в будущем будут найдены и другие следы таких движений, но сейчас наиболее яркое из них - так называемая “урукская экспансия”. В результате ее были основаны на севере Сирии целые города; не исключено, что предприимчивые люди достигали даже севера Египта. Получать сырье могли тогда еще не путем захвата территорий, что случилось гораздо позднее, а путем обмена. Для этого надо было налаживать отношения с предводителями сообществ, располагавших сырьем и вознаграждать их чужими и всегда желанными более, чем свои, ценностями. П. Амье посвятил долгой эпохе, в основном не освещенной письменными текстами, замечательную книгу {Amiet, 1986), в которой обобщен огромный материал, свидетельствующий о контактах на огромной территории, но в основном в Иране и сопредельных регионах.
“Урукская экспансия”, продолжавшаяся, по мнению исследователей, не более 200 лет, имела (если учитывать заведомую ограниченность археологических свидетельств) впечатляющие масштабы. Она сопровождалась экспансией с равнины юго-запада Ирана с центром в Сузах (здесь и далее: Amiet, 1986. Р. 67-72). Признаки ее обнаруживаются в Сиалке III 6-7 (керамика урукского типа) и в Сиалке IV 1, где обнаружены вещи, синхронные позднему уруку, в Сузах (керамика, цилиндрические печати, счетные таблички, в том числе с оттисками печатей). Керамика урукского типа обнаружена в Тепе Габристане, в 120 км к западу от Тегерана.
Формы общения с местным населением в ходе “урукской экспансии”, вероятно, были разными. В Годин Тепе пришельцы жили обособленно в маленькой цитадели и пользовались в основном керамикой урукского типа. Здесь находилось хранилище со счетоводческими табличками и оттисками печатей, в том числе цилиндрических. Пришельцы погибли под ударом, как полагают, напавших из Янык Тепе.
Подчеркивают, что распространение культуры НМЗ III в геоксюрском варианте совпадает с протоэламским временем {Amiet, 1986. Р. 114). Примечательна широта проникновения обитателей юго-запада Ирана на соседние территории: таблички протоэламского типа находят не только в достаточно близких к Сузам поселениях (Тали Мальяне, Чога Мише), но и в глубине
Ирана - Тали Гхазире, Годин Тепе, Тепе Яхья и Шахр-и-Сохте. Последнее поселение - крайний пункт протоэламского проникновения за пределы Плато. Находки здесь, как и в других селениях, демонстрируют признаки обмена минералами - лазуритом, сердоликом, бирюзой. П. Амье отметил специфику протоэламского присутствия в Шахр-и-Сохте: оно документируется материалами не низовой, а верхушечной культуры, в частности образцами глиптики.
Ситуация на территории Ирана в конце IV - начале III тыс. до н.э., по крайней мере в юго-западной части, была далеко не спокойной. Горцы приходят на равнину, часть населения Сузианы переходит к подвижному скотоводству. На печатях встречаются изображения военных действий.
Нет сомнений, что “урукская экспансия” и аналогичные процессы в Юго-Западном Иране - следствия формирующихся цивилизаций с элитами, нуждающимися в знаках своего статуса, разумеется, идеологизированного. Одним из материалов-маркеров культуры элиты на древнем Востоке был лазурит, по преобладающему мнению исследователей, происходивший из Бадахшана и достигавший Восточного Средиземноморья и Египта.
В Месопотамии он зафиксирован окойо середины IV тыс. до н.э. ^Herman, 1968), примерно в это же время - в Египте (Меллаарт, 1985. С. 21-22). Близость юга Туркменистана к месторождениям и соответствующие находки послужили основанием для включения этой территории в “Великий лазуритовый путь” (Сарианиди, 1968). Первые следы его обнаруживаются еще в самом начале энеолита, бусы распространяются с эпохи НМЗ II; в дальнейшем количество изделий из него растет. М. Този высказал мнение, что в период распространения носителей геоксюрского комплекса обмен лазуритом играл роль в интеграции юга Туркменистана, региона Гильменда и Кермана yosi, 1974). Он предположил, что добычей в разное время могли руководить князья, купцы, шаманы.
Возможно, в энеолите и в эпоху бронзы существовали два пути. Северный шел от копей Сари-Санга через юг Туркменистана, северо-запад Ирана (Тепе Гиссар, Тюренг Тепе) к Эшнунне в центральной части Месопотамии. Южный, имея то же начало, был направлен к Мундигаку, Шахр-и-Сохте, Шахдаду на востоке Ирана, Тали Иблису и далее к Дильмуну (Бахрейн) или в Сузы ^Deshayes, 1977. Р. 108).
Вокруг шахт нет признаков древних мастерских и урбанизированных обществ. Первые признаки участия обитателей севера Афганистана в торговле - клад золотых и серебряных сосудов из Фуллола на северо-западной границе Бадахшана. Изображения на них имеют аналогии в Месопотамии раннединастического времени и одновременных памятниках Ирана и юга Туркмении, хотя датировка их далека от точности.
Итак, можно предположить, что в позднем энеолите складывается обширная общность в регионе юга Туркменистана, востока Афганистана, быть может, и Белуджистана. Формирование ее связано с внутренними процессами, которые отчетливо прослеживаются на территории анауской культуры, в результате которых произошло настолько быстрое передвижение групп ее носителей, что они не успевали утратить характерных для их культуры элементов (орнамент, некоторые признаки антропоморфной пластики). Небольшие группы из подгорной полосы проникают на территорию Маргиа-ны. Формированию облика этой общности способствовали носители культур первых цивилизаций, заинтересованные, как уже говорилось, в обмене сырьем. По всей вероятности, как это было и позднее, воздействие испытывала пока еще слабо обособившаяся верхушка - наиболее активная часть общества. Воздействие со стороны более развитых обществ способствовало кристаллизации элементов традиционного “языка культуры”, пока продолжавших циркулировать в малых коллективах и их сообществах с присущим им устным типом передачи информации.
Восприятие посторонних воздействий избирательно: принимаются образы и мотивы, близкие принимающей среде. Так, каково бы ни было происхождение крестообразных мотивов времени НМЗ III, очевидно, что их широкое распространение - следствие представлений “анаусцев” об образе мира. А он был, как это присуще оседлым племенам и народам, геометризованным. Основу его представляли центр, где располагались “мы”, “наши”, четыре стороны света, верх и низ. С помощью реализации таких знаков структурировались и обретали бытие вещи, пространство жилища, наделялась плодородием обработанная земля, обретали действенность ритуалы. Ношение человеком на теле вещей с такими фигурами служило магической защитой (Антонова, 1984. С. 68-76). С эпохи позднего энеолита крестообразные, квадратные, ромбические мотивы становятся на много тысячелетий одними из самых распространенных на пространствах юга Центральной Азии.
Традиции позднего энеолита продолжились в эпоху ранней бронзы, НМЗ IV (2900-2300 гг. до н.э., по В.М. Массону), которую он именует “началом принципиально нового периода” (Массон, 1989. С. 58). Снова люди вынуждены переселяться. В долине Теджена остается лишь одно поселение. В районе Ашхабада и западнее прослеживаются близкие аналогии керамике поселений северо-востока Ирана (Шах Тепе, Тепе Гиссар).
Важный индикатор преемственности развития - керамика, которая, как показали материалы Алтын-депе, продолжает позднеэнеолитические традиции (Кирчо, 2004. С. 156-158). Однако появление гончарного круга ведет к существенным переменам. Постепенно измельчается традиционный орнамент, который в конце концов исчезнет. Одновременно формы сосудов становятся разнообразнее и изысканнее, как бы компенсируя бедность декора.
Раскопки Алтын-депе показали, что в ранней бронзе сохраняются традиции жилой застройки, бытовавшей в энеолите, но появляется и анфиладная планировка, практиковавшаяся затем в средней бронзе. В соответствии с ней сооружаются и некоторые погребальные постройки (Кирчо, 2004. С. 151). По наблюдениям археологов, среди семей, населявших один квартал, одна занимала особое положение. Ее члены совершали ритуалы в помещениях с очагами особых форм и нишами. В этих обычаях также можно усматривать продолжение энеолитических традиций.
Л.Б. Кирчо пишет о продолжении энеолитических традиций и в погребальной обрядности (захоронения в ямах, погребальных камерах, перезахоронения костей, захоронения новорожденных в пределах жилого простран- ства). В конце периода появляются множественные захоронения в камерах, которые совершались последовательно с перемещением останков. При этом отмечается относительное богатство некоторых захоронений и признаки ритуалов, осуществлявшихся уже после процедур погребения (Кирчо, 2004. С. 152-153). Это, как и богатство женских захоронений, сохранится в традиции средней и поздней бронзы, и в памятниках БМАК.
Вообще создается впечатление, что состояние общества ранней бронзы консервативно, оно несет отпечаток промежуточного между поздним энеолитом и средней бронзой. Конечно, археологические остатки дают ограниченные сведения, не позволяя судить о культуре в широком, а не только археологическом смысле. Переход от расписной керамики к неорнаментированной происходит постепенно. Применение гончарного круга - не единственное усовершенствование в этой столь важной для жизни людей области, появились и более совершенные, чем одноярусные, двухъярусные горны. Антропоморфная пластика не столь однообразна, как это было в позднем энеолите (хотя и эта картина может оказаться искаженной из-за неравномерности изученности культурных напластований) и в средней бронзе.
Столь же архаичный облик имеют печати, обладавшие, вероятно, как всегда, свойствами амулетов. Это две разновидности штампов с разными способами крепления, круглые или квадратные, из металлов (в том числе серебра), камня, кости и обожженной глины. Они несут крестообразный орнамент (Кирчо, 2004. С. 158) - знак, столь важный для носителей этой культуры. JI.Б. Кирчо подчеркивает связь культуры ранней бронзы на Алтын-депе с предшествующим этапом, отмечая в то же время тенденции формирования специализированного ремесла, что привело к возникновению “протогородской цивилизации Алтын-депе”, изученной в основном лишь на единственном, хотя и замечательном, памятнике.
В статье относительно небольшого размера мы не касаемся вещей, которые могут иметь значение для выявления культурных традиций, в частности сосудов и других изделий из кристаллического гипса, часто именуемого в археологической литературе алебастром. Следует упомянуть распространение в эту эпоху мышьяковых бронз, столь характерных для Ирана и Месопотамии, и более четкую организацию производства.
Относительно медленные темпы развития столь небольшого и специфического в экологическом плане региона не должны удивлять: подгорная полоса Копетдага - это не Месопотамия с ее возможностями производить жизнеобеспечивающие продукты в избыточном количестве. Здешние сообщества типологически скорее близки анатолийским, где возможности освоения природы были достаточно ограничены. Однако там имелись столь желанные для носителей ранних цивилизаций полезные ископаемые, источники которых были разведаны, видимо, вследствие близости их путям по Евфрату.
Наступает новая эпоха, средняя бронза, когда обитатели подгорной полосы, видимо, под давлением среды, стали покидать по крайней мере некоторые небольшие поселения (типа Илгынлы-депе около Алтын-депе), чтобы образовать большие сообщества. Находки в относительно полно изученном верхнем слое Алтын-депе и аналогии в других поселениях позволяют гово-
КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ ИНСТИТУТА АРХЕОЛОГИИ РАН. ВЫП. 223. 2009 г. рить о важных явлениях, сигналах процессов следующего (или следующих?) периодов. Они дали основания для заключения о сложении урбанизированной культуры.
Формы гончарных сосудов становятся чрезвычайно разнообразными, их очертания изящны. Увеличивается количество металлических изделий. Распространяются литые печати-штампы с рельефными узорами, геометрические, зооморфные, изображающие фантастических зверей. В них обнаруживается сходство с печатями БМАК.
В. Массон неоднократно писал о новых чертах в организации пространства поселения. Выделился обширный ремесленный квартал гончаров. Планировка и качество постройки жилищ позволили предположить, что население было неоднородным в статусном и имущественном отношении (так, выделяется “квартал знати”). В погребальном сооружении с несколькими камерами обнаружены следы множественных захоронений, при этом к останкам периодически возвращались для совершения ритуалов. В одном из помещений около очага лежали сосуды для возлияний и ритуальные вещи -каменные колонки (столь многочисленные в дальнейшем в комплексах БМАК), каменная гиря, украшения и золотые головки волка и быка. “В целом Алтын-депе выступает как организм с сословно-престижным членением территории, как поселение, выполняющее функции центра сельскохозяйственной округи и ремесла, а также идеологического лидера” ^Массон, 1989. С. 163). В связи с последней функцией неоднократно анализировалось ступенчатое башнеобразное культовое сооружение предположительно 12-метровой высоты, масштабы и назначение которого многими исследователями подвергались сомнению.
Не вполне понятно, почему В.М. Массон не видит важности роли Ал-тын-депс как центра торговли, хотя отмечает, что сюда регулярно поступали медная руда, лазурит, изделия из слоновой кости. Вероятно, это следствие научной парадигмы, в соответствии с которой акцент делался на автохтонное развитие, а новшества объяснялись, например, “культурными мутациями”. (Это понятие лишь маркирует факты существенных изменений в культуре, не объясняя их.) Как косвенное свидетельство развитого обмена можно рассматривать и сложную, по мнению В.М. Массона, структуру общества, и существование “знати”, которая всегда нуждается в привозных престижных материалах.
Существенные изменения претерпевает антропоморфная пластика. В отличие от предшествующих, статуэтки становятся совершенно плоскими и, несмотря на признаки происхождения от фигурок в сидячей позе, ориентированы вертикально. На их поверхность наносится большое число деталей. Передаются все части тела, при этом внимание уделяется признакам пола как женских (количественно преобладающих), так и мужских фигурок (возбужденное состояние персонажей обычно подчеркивается). По сырой глине на их поверхность наносили знаки, восходящие к орнаментальным мотивам, которые бытовали в энеолите - креста и полукреста, ромба с дополнительными элементами, а также изображения растений. Некоторые из этих знаков имеют сходство с пиктограммами древних письменностей юга Месопотамии и юго-запада Ирана, смысл которых связан с образами плодородия, женской сферой, знаком святилища (Антонова, 1981).
Персонажи этих изображений с их подчеркнутой “космичностью” продолжают бытовать в ритуалах семейно-родовых коллективов. Видеть в них образы сложившихся богов, управляющих разными сферами природы, вряд ли правомерно. “Преемственность в области ритуала от энеолита к эпохе бронзы заставляет думать, что и к концу III тыс. до н.э. религия обитателей подгорной полосы Копетдага оставалась на уровне религии первопредков” (Березкин, 1994. С. 34). Фигурки систематически помещают в погребения, причем прослеживаются случаи их явной принадлежности женщинам. Сколько-нибудь крупные фигуры, которые могли фигурировать в ритуалах более сложных сообществ, чем семейно-родовые, неизвестны. Поэтому кажется правомерным видеть в них мифических покровителей, участие которых в ритуалах должно было способствовать благополучию потомков, продолжению рода и продолжению жизни после перехода в иной мир. Быть может, в формировании их облика сыграло роль знакомство с искусством Месопотамии и областей к востоку от нее. Недалеко то время, когда под влиянием изображений представительниц эламской знати носители БМАК стали делать каменные фигурки в облачениях, ведущих происхождение от месопотамского каунакеса.
Многие факты подтверждают правомерность признания преемственности трансформации культуры от энеолита до бронзы. Поэтому автор настоящей статьи и предпочитает именовать ее анауской, по крайней мере до той эпохи, когда она выходит далеко за пределы своей территории и приобретает новые черты. Ю.Е. Березкин в нескольких работах обратил внимание на специфический облик так называемой “знати" и “зажиточных горожан” на Алтын-депе: в их жилищах встречаются следы производственной деятельности. Он полагает, что “ремесленное производство в богатых домохозяйствах могло иметь свои организационные и функциональные особенности” (Березкин, 1994. С. 28). Примечательно, что важную роль в общественной жизни играют (или продолжают играть) женщины, в частности, как можно полагать, репродуктивного возраста. Данные на этот счет собраны на Алтын-депе, Шахр-и-Сохте и Сапаллитепа. Один из признаков этого - наличие в их погребениях печатей - не только амулетов, но и знаков контроля (сводку некоторых данных см.: Антонова, 1996. С. 224-225).
Наступает момент, когда почти линейному, по словам В.М. Массона, развитию от архаики к сложному обществу в подгорной полосе приходит конец. По его мнению, оставление таких крупных поселений, как Алтын-депе, не было катастрофическим: его обитатели под влиянием аридизации климата организованно двинулись в сторону древней дельты Мургаба, чтобы основать там сходные со своими поселения (Массон, 1989. С. 172-173).
Своеобразное мнение (вероятно, связанное с его раннеамериканскими штудиями) высказал Ю.Е. Березкин. Он предположил, что под влиянием тех же природных явлений в обществах подгорной полосы возникли условия для возникновения “кризисного культа". Характерными для него он считал каменные ритуальные предметы - “колонки”, “гири”, палкообразные “жезлы”.
Они известны в раскопках Тепе Гиссара и многих поселениях, обрамляющих с севера и востока Иранское плато вплоть до Белуджистана. Согласно его гипотезе, они явились атрибутами нового культа небесного мужского божества месопотамского или иранского происхождения (Березкин, 1994. С. 35-36). Со времени публикации статьи появилось много новых данных, не позволяющих принять эту идею.
П. Амье показал, проанализировав вещи многих категорий, что во второй половине III - начале II тыс. до н.э. обширная зона Ирана объединилась благодаря общим судьбам ее обитателей и развитию обмена (Amiet, 1986. Р. 172). Территория “исторического” Ирана, где уже давно сложились государственные образования, оказалась окруженной землями “Внешнего Ирана”, простиравшимися от юга Персидского залива, юго-востока Кермана до долины Гильменда, юга Туркмении, Афганистана и северо-востока Ирана. Эти регионы отмечены общими признаками и свидетельствами контактов с юго-западом Ирана, Месопотамией и более отдаленными областями, а также культурой Хараппы. Их общества далеки от социальной простоты, о чем свидетельствуют сооружения, потребовавшие больших вложений труда, обнаруженные на Алтын-депе, Мундигаке, Тюренг Тепе. Некоторые из них, по высказанным предположениям, не уступали месопотамским (Tosi, Lamberg-Karlovsky, 2003. Р. 349).
Обращаясь к феномену БМАК, сразу следует подчеркнуть сложность этого явления, которая становится все яснее от сезона к сезону археологических работ, ведущихся в Маргиане. Во многих своих работах В.И. Сарианиди (упомянем лишь некоторые: Сарианиди, 1987; 1994; 2001; 2002) настаивает на масштабном переселении с запада через юг Ирана. О том, что группы людей в конце III - первой половине II тыс. до н.э. могли перемещаться на значительные пространства, говорит много фактов из истории населения Передней Азии. В Центральной Азии симптоматично основание выходцами с территории цивилизации Хараппы поселения на севере Афганистана {Francfort, 1989). В нижних его слоях множество признаков принадлежности его обитателей к этой цивилизации. В дальнейшем картина меняется: отмечают преобладание бактрийских черт: местная среда поглотила пришельцев, хотя, по всей вероятности, они оказали на нее воздействие. Эта ситуация еще раз убеждает в необходимости проследить динамику трансформации местных традиций, не отрицая воздействий подчас с очень отдаленных территорий.
При выявлении генезиса БМАК важные свидетельства дают массовые вещи, генезис которых легче интерпретировать, чем, например, происхождение форм монументальных построек. Последних, так называемых “дворцов” и “храмов”, раскопанных в Маргиане, мы здесь не будем касаться в связи со сложностью этих феноменов.
Важную роль в выявлении преемственности традиций играют керамические комплексы. На основании их изучения связи между поселениями древней дельты Мургаба и подгорной полосой эпохи развитой и поздней бронзы не вызывают сомнений (Удеумурадов, 1993). Л.Т. Пьянкова писала, что керамика наиболее ранних комплексов Маргианы имеет прямые аналогии преимущественно в верхних слоях Алтын-депе, каковая преемственность, как она справедливо отметила, не исключает признания сложности формирования комплекса поздней бронзы, БМАК {Пьянкова, 1994). Первый период БМАК на основании керамического материала она датировала рубежом Ш-П тыс. до н.э. Далее преемственность сохраняется. Аналогичные материалы она обнаружила на севере Афганистана. Второй период - XVIII-XIV вв. до н.э., когда масштабы освоения дельты Мургаба достигли максимума. Сходные типы обнаруживаются на востоке Ирана (Шахдад), на территории Пакистана (Мехргарх, Сибри, Наушаро, Пирак). К этому времени относится наибольшее разнообразие типов и вариантов сосудов. В третьем периоде, XIV-X вв. до н.э., несколько увеличивается количество лепной керамики степного типа в Маргиане. В это время она становится многочисленной и на юге Узбекистана, и на юге Таджикистана - в зонах, прямо относящихся к БМАК или тяготеющих к нему. Оказывается, что существование БМАК в значительной степени совпадает с традиционно принятыми в отечественной археологии периодами НМЗ V-VI.
Жизнь на новых местах вызывала новые подходы к организации пространства. Не стесненные старой застройкой, люди могли сооружать более крупные дома, в планировке которых развивались старые традиции {Массон, 1989. С. 173). Даже при недостатке сведений о рядовой застройке отмечают сходство между домами Гонур-депе в Маргиане и Сапаллитепа в соседней Бактрии (юг Узбекистана), куда явно переселялись из подгорной полосы {Ги-берт, 1994. С. 108). Особый интерес представляют крспостеобразные стены Сапаллитепа на юге Узбекистана и Дашлы 3 на севере Афганистана. Они имеют вид прямоугольников с пристроенными к стенам и углам углообразными коридорами. Эти сооружения напоминают мандалу {Brentjes, 1983), хорошо известную космограмму. Однако напоминают они и орнаменты на сосудах и статуэтках анауской культуры. Можно полагать, что эти “укрепления” служили не столько целям реальной обороны, сколько магической защитой от вредоносных сил на новых территориях {Антонова, 2001. С. 17).
Планировка этих сооружений заставляет обратиться к столь характерным для цивилизации БМАК литым металлическим ажурным или с рельефным узором печатям. Есть среди них и каменные {Sarianidi, 1998). Особую группу составляют двустронние каменные печати-амулеты, происходящие из Маргианы {Сарианиди, 1976). (Печати-штампы с двусторонними изображениями были известны в конце III тыс. до н.э. на юго-западе Ирана и в Месопотамии: Amiet, 1986. Р. 35.) Изучение этих интереснейших вещей затруднено из-за того, что происходящие с территории Афганистана найдены в ходе грабительских раскопок и относительная хронология их неясна. Лучше обстоят дела с теми, которые найдены в Маргиане или в Северной Бактрии (Сапаллитепа).
Изображения на них разнообразны, но преобладают имеющие геометрическую форму или содержащие геометрические мотивы. Особенно распространены крестообразные с различными дополнительными мотивами. То, что источники их - столь важные для осмысления геометризованного образа мира фигуры, распространившиеся в анауской культуре с энеолита, весьма вероятно. В это время появляются и изображения зооморфных существ, маркирующих стороны света (один из выразительных образцов - металлическая печать из Сапаллитепа: Аскаров, 1977. С. 208).
Многочисленны и изображения хищных и травоядных животных (встречаются, в частности, изображения верблюдов, в том числе в составе сложных композиций), птиц, как нехищных, так и орлоподобных. Такого разнообразия образов в предшествующие эпохи не было. Выразительна группа печатей с изображениями антропоморфных существ мужского и женского пола, иногда крылатых, явно сверхъестественных, имеющих атрибуты реальных и фантастических животных. Кроме того, мужские персонажи бывают и орлиноголовыми. Такие печати делали и из драгоценных металлов.
Большинство печатей, судя по их относительной простоте и немалому количеству, очевидно, принадлежало основной массе населения, но несущие изображения сверхъестественных существ, очевидно, были собственностью элиты.
Исследователи уделяли и продолжают уделять большое внимание поискам аналогий и источников изобразительных мотивов. Их находят в глиптике и изображениях от Крита до хараппской цивилизации, что естественно - это время отдаленных контактов. На побережье Омана и близлежащих островах найдены оттиски печатей, аналогичных происходящим из раскопок сирийских памятников - Телль Хуэры, Эблы, Хамы. На печатях Бахрейна также обнаруживаются мотивы, сходные с сиро-каппадокийскими (Amiel, 1986. Р. 173, 175-176).
В настоящее время трудно детально говорить о погребальном обряде БМАК, поскольку памятники исследованы и очень неполно, и неравномерно. В конце III тыс. до н.э. в подгорной полосе появляются обособленные некрополи. Традиция помещать таким образом своих умерших, судя по всему, становится характерной для БМАК. На наилучшим образом изученном к настоящему времени некрополе Гонура могильные сооружения разнообразны. Большинство их с подбоями, есть простые ямные, встречаются ямы обожженные. И совсем небольшое число приходится на сооруженные с использованием кирпича - это ямы с обкладкой (цисты) и камерные гробницы, которые могли состоять из нескольких помещений с элементами убранства, присущими жилищам. Инвентарь в погребениях двух последних типов несет признаки богатства, хотя большинство из них ограблено. Аналогии камерным гробницам В.И. Сарианиди усматривает в обнаруженных в Сирии в бассейне Евфрата и далее к западу, где они датируются второй половиной III тыс. до н.э. (Сарианиди, 2001. С. 33).
Судя по тому, что оставили грабители, орудовавшие еще в древности, необычайно богатыми были погребения, образующие отдельную группу на Го-нуре (Дубова, 2004). В них были найдены сосуды из драгоценных металлов, разнообразные украшения, изделия из слоновой кости, предметы вооружения (в том числе находящие аналогии на территориях вплоть до Восточного Средиземноморья), следы повозок с металлическими шинами, фрагменты мозаик, украшавших стены. В ряде случаев в жертву умершим приносили людей и животных, в том числе верблюдов. Судя по всему, заупокойные ри- туалы совершались некоторое время и после захоронений, что напоминает обряды принесения жертв умершим в Месопотамии и далее к западу, где они носили название “киспум”.
Разнообразие погребальных обрядов, прослеживаемое по материалам некрополя Гонура, может указывать на различия в происхождении его обитателей и, безусловно, на неравенство их общественного статуса. Конечно, в сложно организованном, а тем более разноэтничном, обществе погребальный обряд не может быть однотипным. В то время, когда дельта Мургаба представляла собой желанные для освоения земли, а Бактрия - земли как для земледелия, так и для выпаса скота, трудно было бы ожидать, что здесь могли утвердиться носители какой-то одной культурной традиции.
В погребения Маргианы продолжали иногда помещать глиняные фигурки женских существ, происходящие от тех, что изготавливали в эпоху НМЗ V. Однако появляются новые. Это небольшие - от 10 до 20 см - статуэтки сидящих женщин, корпус которых вырезан из темного хлорита или стеатита, а кисти рук и головки - из белого камня. Все их тело окутано одеянием из ткани, имитирующей пряди овечьей шерсти, шея украшена вырезанным ожерельем. Такие фигурки найдены в погребениях на Гонур-депе, как и их имитации из глины и гипса; фрагменты обнаружены и при раскопках монументальных сооружений (Сарианиди, 2001. С. 50). По мению П. Амье, они воспроизводили изображения эламских цариц, известные на печатях из Суз и Аншана периода правления царей объединения Симашки и первых суккальмахов (первые века II тыс. до н.э.). Отличие в их использовании заключалось в том, что подобные изображения в Эламе и Месопотамии передавали адорантов, а в Бактрии их помещали в погребения (Amiet, 1986. Р. 200; Амье, 1997). Таким же образом с ними обходились и в Маргиане.
Замечательная составная фигурка была найдена в явно богатом погребении на Гонуре. Это небольшое изображение стоящей женщины в конусообразном одеянии из золотой фольги, укрепленном на каркасе. Из тела ее на бронзовых стержнях поднимаются гипсовые пшеничные колосья и два золотых; какие-то плоды укреплены на основании. Н.А. Дубова предположила, что она изображает богиню растительности (Дубова, 2004. С. 272-273).
Стоячее положение этого изображения, растущие из ее тела растения, нахождение в погребении сближает его с фигурками поры НМЗ V, которые, по всей вероятности, должны были обеспечивать благополучие умерших в ином мире. Изображения сидящих богинь, явно связанных с растениями, известны на цилиндрических печатях из Гонура (Сарианиди, 2001. С. 66; 2004. С. 239). ГТ. Амье был склонен считать эти персонажи, встречающиеся также на печатях из Кермана, божествами растительности и сближал их скорее с эламскими, чем с месопотамскими образами, подчеркивая при этом “женский” характер эламского пантеона (Amiet, 1986. Р. 167).
Можно полагать, что в представлениях о мифических покровительницах сохраняются древние традиции, которые было трудно поколебать, особенно в тех случаях, когда ритуалы были связаны с продолжением рода, плодородием в широком смысле, погребальным обрядом с его мотивами взаимосвязи смерти и жизни. Исследователи неоднократно отмечали высокий престиж
КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ ИНСТИТУТА АРХЕОЛОГИИ РАН. ВЫП. 223. 2009 г. женщин в обществах эпохи бронзы на территории “Внешнего Ирана” (об этом см.: Антонова, 1996. С. 224-226).
В то же время явно прослеживаются и иные тенденции. Увеличивается количество предметов вооружения, появляется парадное оружие, вероятные знаки власти - особым образом оформленные топоры, изогнутые рубящие “секачи”. Появление на печатях изображений персонажей мужского пола с орлиными головами в воинственных позах, “хозяев” мощных животных, также, очевидно, отражает ситуацию в обществах, где предводители играют большую роль. В этой связи привлекают внимание изображения на сосудах, где мужчины охотятся, участвуют в ритуальной пахоте и пируют {Amiet, 1986. Р. 326-329), т.е. предаются ритуально и социально престижным занятиям.
Можно ли думать, что функция управления крупномасштабной ирригацией, ремеслом, обменом, защитой накапливавшихся благ не находилась в руках мужчин? Такого просто не могло быть. Женщины могли сохранять высокое положение, но не на самом высоком уровне общественной жизни, где они скорее играли роль носительниц присущего им начала в разнообразных ритуалах. Как везде на Востоке, образы богинь ассоциировались с хищниками и грозными драконоподобными существами.
Признаки формирования новых культов появились еще в памятниках, относимых к эпохе НМЗ V, и в поселениях этого времени (например, Гис-сар ШС). Это, что примечательно, каменные вещи - так называемые миниатюрные колонки, палкообразные скипетры и тяжелые гиреподобные предметы, которые Ю.Е. Березкин считал признаками “катастрофического культа”. Их обнаруживают в погребениях и в ритуальных контекстах в Маргиане, они известны в Шахр-и Сохте и в Белуджистане. Гиреподобные вещи делали и из металла, в частности из свинца на севере Афганистана {Pottier, 1984. Р. 43). Каменные скипетры в некоторых случаях сохранили металлические навершия, одно - с камешками внутри. Очевидно, таким “посохом” могли потряхивать, чтобы вызывать звук, игравший роль в ритуале.
В Маргиане зафиксировано использование растений, вероятно, для изготовления напитков, приводивших в экстатическое состояние (эфедра, мак, конопля -см., в частности: Сарианиди, 1994. С. 9). Судя по оформлению помещений, где найдены следы таких растений, они применялись не в домашних, а в общественно значимых ритуалах. Встречаются на печатях и изображения пирующих мужчины и женщины. Пиршества - важные моменты обряда или обрядов, направленных на оживление природы и продолжение жизни людей. Они - принадлежность повсеместно распространенного обряда “священного брака”. На существование этого обряда указывают и особенности трактовки фигур женщин и мужчин в пластике анауской культуры эпохи развитой бронзы.
Среди появившихся на территории БМАК новых ритуальных предметов следует упомянуть чашеобразные сосуды с налепными на венчике фигурками животных, змей, реже - людей. Это безусловно ритуальные сосуды, использовавшиеся в весенних обрядах возрождения природы {Антонова, 2004). С этими же обрядами, центральными в восприятии круговорота природы, преодолеваемой смерти и продолжающейся жизни мира, как нам ка- жется, были связаны и образы печатей. На них эти образы представлены как в виде максимально обобщенных геометризованных знаков организованного пространства, так и многочисленных изображений животных, находящихся в ситуациях конфронтации. Анализ таких сцен позволяет думать, что в них отражались благотворные для существования жизни противоречия между зонами мира и олицетворяющими их существами. Они не предполагают победу добра над злом, а вечное возвращение жизни, перетекающей в смерть и наоборот.
Собрав их все, проследив их взаимосвязи, можно представить образ мира носителей БМАК - наследников старой традиции, теперь обретших возможность ее воплотить в зримых образах.
Что же представлял собой феномен БМАК? Когда П. Амье опубликовал свою неоднократно цитировавшуюся в этой статье книгу, о нем было известно еще очень мало. Собранные им материалы и данные о ситуации, сложившейся в Передней Азии в конце III - начале II тыс. до н.э., привели его к заключению, что формирование этого своеобразного явления было результатом воздействия на местную среду со стороны процветавшего в это время Элама, а его двигателем была деятельность купцов. По аналогии с многочисленными староассирийскими колониями в Сирии и Анатолии он считал крупные окруженные стенами сооружения временными обиталищами, куда периодически для совершения обмена стекались люди. Сейчас, в первую очередь благодаря раскопкам Гонура, картина рисуется иной (Дубова, 2004).
Недавние находки в “царском некрополе” этого поселения дали множество свидетельств богатых захоронений и совершавшихся около них посмертных обрядов. Вряд ли можно сомневаться, что погребенные - представители местной элиты. В уцелевшем от грабителей инвентаре этих погребений отчетливо прослеживается знакомство с культурой Элама. В частности, это деталь настенного украшения в виде фантастического существа, сочетающего элементы тел льва, змеи, птицы. Подобный монстр, об эламском происхождении которого писал П. Амье, изображен на серебряном парадном топоре из музея Метрополитен (Amiet, 1986. Р. 196). В этих погребениях обнаружены остатки повозок с колесами с металлическими шинами. Подобные были найдены в сузских погребениях времени I династии Вавилона (Amiet, 1986. Р. 152).
Анализ памятников БМАК при всей сложности комплекса позволяет думать, что местная составляющая в его формировании была очень значительной, если не определяющей. Автор склоняется к последнему предположению: слишком мощными были традиции, восходящие к многотысячелетнему опыту.
Основой существования служили ресурсы оазисов дельты Мургаба и других рек, а с земледелием такого рода обитатели региона были хорошо знакомы. По-видимому, хозяйственная база расширялась. Вероятно, возрастает роль отгонного скотоводства (Мур, 1994), роль которого на севере Афганистана была, возможно, еще большей. Следует подчеркнуть значение транспортных животных, верблюда и осла (Медоу, 1994. С. 83, 86-87). Око-
КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ ИНСТИТУТА АРХЕОЛОГИИ РАН. ВЫП. 223. 2009 г. ло начала II тыс. до н.э. или несколько ранее стали использовать лошадей. Сведения о колесном транспорте на территории БМАК становятся все более многочисленными (Аванесова, 2005).
Сказанное выше не позволяет приуменьшать роль контактов, в том числе отдаленных, в сложении БМАК. Чем же они были обусловлены? Конечно, не военной активностью местных предводителей и не стремлением к захвату добычи, как этого можно было бы ждать от воинственных кочевников. Остается наиболее вероятный вариант - обмен, торговля. Маргиана и в неменьшей степени Бактрия античного времени располагались на важных путях.
Стратегическим металлом этого времени было олово. Отмечают, что в Маргиане, как и в Месопотамии, использовали мышьяковые, а в Бактрии -оловянные бронзы (Гиберт, Киллик, 1994). Хараппские бронзы были оловянными. Источниками олова могли быть месторождения в Узбекистане (Лит-винский, 1950; Potts, 1997. Р. 268-269; Lombardo, 2004). Вероятно, и другие металлы и минералы могли быть, подобно лазуриту, предметом экспорта из этих регионов.
Нельзя исключать возможности, что среди местной элиты могли быть пришельцы, как это случалось на этапе формирования сложноструктурированных обществ. Очень вероятно, что между вождями и/или правителями локальных образований БМАК и их соседями поддерживались, по крайней мере в пору расцвета этой цивилизации, постоянные отношения. Как известно, в результате их вожди и цари могли обмениваться ремесленниками и разного рода специалистами (Антонова, 1996. С. 239-240). Возможно, на правителей Гонура наряду с местными работали пришлые архитекторы, ремесленники, среди них - ювелиры и т.д.
Заставляет задуматься широта распространения вещей, имеющих безусловное происхождение из БМАК или принадлежащих к общей для нее и соседних культур традициям. К ним П. Амье относит многочисленные находки в Сузах (в частности, изображения орлов с поджатыми лапами, украшения определенных типов, фрагменты “колонок” и т.д.), отдельные находки в Месопотамии. Весьма вероятно, что люди с территории БМАК не были чужаками в отдаленных землях. На территории Пакистана найдены погребения с типичными вещами - “колонками”, “посохами”, керамикой. В широте распространенности вещей БМАК К. Ламберг-Карловский увидел признаки экспансии, свойственные цивилизациям на этапе их формирования (Ламберг-Карловский, 1994. С. 41-42).
По всей территории “Внешнего Ирана” в эпоху поздней бронзы распространился комплекс изделий с характерными признаками. Среди них - вещи из хлорита, объединяемые общими признаками (сводку сведений см.: Антонова, 1996), металлические изделия сложных форм, в том числе предметы вооружения, престижные вещи, ювелирные изделия. П. Амье определил это культурное “койнэ” как принадлежащее культуре верхов, в то время как локальные культуры в своей “низовой” или тяготевшей к ней составляющей сохраняли своеобразие.
Итак, что сейчас можно сказать о характере локальных образований, “оазисов”, существовавших некоторое, пока неизвестное время, население которых перемещалось с изменением окружающей среды? Нет сомнений, что организующую роль играла элита с разнообразными функциями. Они и их “штат” управляли хозяйственной деятельностью, организовывали различные общественные работы, включая строительные. В их ведении находился обмен, формирование караванов и их охрана. Так или иначе, они должны были заниматься вопросами охраны и организацией военных действий. Последние становились интенсивнее с накоплением богатств.
Вероятно, набор функций элиты и формы организации не были однотипными на протяжении существования БМАК, те или иные могли занимать более или менее важное место в разное время и в разных местах. При современном состоянии исследований особенно значительное место отводится Гонуру, безусловно очень значительному поселению.
Имеющиеся факты позволяют думать, что носители БМАК не были пассивными восприемниками, но активными участниками сложных процессов, начало которых относится к существенно более раннему времени. Однако их культура оставалась бы периферийной, если бы не мощные стимулы обмена, потребности со стороны соседей. В эти контакты втягиваются все более отдаленные регионы (среди многочисленных работ на эту тему упомянем лишь последнюю, содержащую обширную библиографию: Кузьмина, 2005).
В заключение заметим, что явления древней культуры, имевшей долгую традицию на определенной территории, не могут не определять облик более поздних культур, существовавших здесь же или поблизости. Несмотря на превратности истории, эти явления продолжают бытовать, хотя археологически их бывает и нелегко выявить, в частности потому, что воплощавшиеся в них традиционные элементы находятся на уровне “низовой”, а не “верхней” культуры. Неизбежны изменения в хозяйстве, общественной организации сообществ, их представлениях о мире и о себе. Собственные изобретения идут рука об руку с принятием новых форм, заимствованных у соседей. Благодаря контактам обогащается “язык” культуры, ярче выявляется план выражения свойственных ей знаков. Представляется, что с таким феноменом мы сталкиваемся, когда пытаемся проследить генезис замечательной культуры - Бактрийско-маргианского археологического комплекса. Контуры этого феномена в полной мере еще только вырисовываются.
Список литературы К проблеме формирования Бактрийско-Маргианского археологического комплекса
- Аванесова Н.А., 2005. О культурной атрибуции колесного транспорта доисторической Бактрии: (по материалам сапаллинской культуры)//История Узбекистана в археологических и письменных источниках. Ташкент.
- Амье П., 1997. Богини и царицы Элама//ВДИ. № 1.
- Антонова Е.В., 1977. Антропоморфная скульптура древних земледельцев Передней и Средней Азии. М.
- Антонова Е.В., 1981. Орнаменты на сосудах и знаки на статуэтках анауской культуры: (к проблеме значения)//Средняя Азия и ее соседи в древности и средневековье. М.
- Антонова Е.В., 1984. Очерки культуры древних земледельцев Передней и Средней Азии: Опыт реконструкции мировосприятия. М.
- Антонова Е.В., 1996. Контакты Месопотамии с восточными землями в IV-III тыс. до н.э.//Азия -диалог цивилизаций. СПб.
- Антонова Е.В., 2001. Заметки об одной из культур эпохи бронзы -"цивилизации Окса"//Российские востоковеды в память о М.С. Капице. М.
- Антонова Е.В., 2004. Еще раз о культовых сосудах БМАК//У истоков цивилизации: Сб. статей к 75-летию Виктора Ивановича Сарианиди. М.
- Арутюнов С.А., Рыжакова С.И., 2004. Культурная антропология. М.
- Аскаров А., 1977. Древнеземледельческая культура эпохи бронзы Узбекистана. Ташкент.
- Березкин Ю.Е., 1994. "Город мастеров" на древневосточной периферии: Планировка поселения и социальная структура Алтын-депе в III тыс. до н.э.//ВДИ. № 3.
- Березкин Ю.Е., Соловьева Н.Ф., 1996. Символы власти в акефальном обществе: скамьи, кресла и бык на юге Средней Азии//Символы и атрибуты власти: Генезис. Семантика. Структура. СПб.
- Гиберт Ф., 1994. Раскопки малых кварталов Гонур-Депе//Информационный бюллетень МАИКЦА. М. Вып. 19.
- Гиберт Ф., Киллик Д., 1994. Металлургия Маргианы эпохи бронзы//Информационный бюллетень МАИКЦА. М. Вып. 19.
- Дубова Н.А., 2004. Могильник и царский некрополь на берегах Большого бассейна Северного Гонура//У истоков цивилизации: Сб. статей к 75-летию Виктора Ивановича Сарианиди. М.
- Дьяконов И.М., 1971. Иран до Кира//История Иранского государства и культуры: К 2500-летию Иранского государства. М.
- Дьяконов И.М., 1995. Алародии. II: Прародина европейцев: (по поводу книги Е.Е. Кузьминой "Откуда пришли индоарии?")//ВДИ. № 1.
- Кирчо Л.Б., 1990. Древнейшие печати и их оттиски на Алтын-депе//СА. № 3.
- Кирчо Л.Б., 2004. Формирование древнейшей протогородской цивилизации бронзового века Средней Азии (по материалам Алтын-депе)//У истоков цивилизации: Сб. статей к 75-летию Виктора Ивановича Сарианиди. М.
- Кузьмина Е.Е., 2005. К вопросу о современном состоянии проблемы происхождения индоиранцев//Центральная Азия: Источники, история, культура: Мат-лы Междунар. науч. конф., посвящ. 80-летию д. и. н. Е.А. Давидович и действительного члена АН Таджикистана, академика РАЕН, д. и. н. Б.А. Литвинского (Москва, 3-5 апреля 2003 г.). М.
- Ламберг-Карловский К., 1994. Размышления о бронзовом веке Центральной Азии//Информационный бюллетень МАИКЦА. М. Вып. 19.
- Литвинский Б.А., 1950. К истории добычи олова в Узбекистане//Тр. САГУ. Новая сер. Гуманитарные науки. Ташкент. Вып. II, кн. 3.
- Массон В.М., 1962. Восточные параллели убейдской культуры//КСИА. Вып. 91.
- Массон В.М., 1989. Первые цивилизации. Л.
- Медоу Р., 1994. Длительность существования земледелия в Большой Индской Долине и наступившие в нем перемены//Информационный бюллетень МАИКЦА. М. Вып. 19.
- Меллаарт Дж., 1985. Торговля и торговые пути между Северной Сирией и Анатолией (4000-1500 гг. до н.э.) // Древняя Эбла: (Раскопки в Сирии). М. Мур К, 1994. Животные в хозяйстве Гонур Депе эпохи бронзы // Информационный бюллетень МАИКЦА. М. Вып. 19.
- Пьянкова Л.Т., 1994. Керамика Маргианы и Бактрии эпохи бронзы//Информационный бюллетень МАИКЦА. М. Вып. 19.
- Сарианиди В.И., 1965. Геоксюрский некрополь: (раскопки 1963 г.)//Новое в советской археологии. М.
- Сарианиди В.И., 1968. О великом лазуритовом пути на Древнем Востоке//КСИА. Вып. 114.
- Сарианиди В.И., 1976. Печати-амулеты мургабского стиля//СА. № 1.
- Сарианиди В.И., 1987. Юго-Западная Азия: миграции, арьи и зороастрийцы//Информационный бюллетень МАИКЦА. М. Вып. 13.
- Сарианиди В.И., 1990. Древности страны Маргуш. Ашхабад.
- Сарианиди В.И., 1994. Маргиана на Древнем Востоке//Информационный бюллетень МАИКЦА. М. Вып. 19.
- Сарианади В.И., 2001. Некрополь Гонур-депе и иранское язычество. М.
- Сарианиди В.И., 2002. Маргуш: Древневосточное царство в старой дельте реки Мургаб. Ashgabat.
- Сарианиди В.И., 2004. Страна Маргуш открывает свои тайны: Дворцово-культовый ансамбль Северного Гонура//У истоков цивилизации. М.
- Соловьева Н.Ф., 2005. Антропоморфные изображения и культовые комплексы Южного Туркменистана поры среднего энеолита: (по материалам Илгынлы-депе): Дис.... канд. ист. наук. СПб. Средняя Азия в эпоху камня и бронзы. Л., 1966.
- Удеумурадов Б.Н., 1993. Алтын-депе и Маргиана: связи, хронология, происхождение. Ашгабат.
- Хлопин И.Н., 1960. К характеристике этнического облика ранних земледельцев Южного Туркменистана: (по материалам ЮТАКЭ 1956-1957 гг.)//ТЮТАКЭ. Т. X.
- Царева Е.В., 2004. Тотемные изображения на ворсовых коврах Средней Амударьи//У истоков цивилизации: Сб. статей в честь 75-летия Виктора Ивановича Сарианиди. М. Энеолит СССР. М., 1982. (Археология СССР).
- Amiet Р., 1986. L'age des echanges inter-iraniens 3500-1700 avant J.-С. Paris.
- Brentjes В., 1983. Das "Ur-Mandala" (?) von Daschly-3//Iranica Antiqua. Vol. 18.
- Deshayes J., 1977. A propos des terrasses hautes de la fin du III millenaire en Iran et en Asie Centrale//Le Plateau Iranien et l'Asie Centrale des origins a la conquete islamique. Paris.
- Francfort H.-P, 1989. Fouilles de Shortughai//Recherches sur l'Asie Centrale protohistori-ques. Paris. Vol. I-II.
- Francfort H.-P., 2005. La civilization de l'Oxus et les indo-iraniens et indo-ariens en Asie Centrale//Aryas, aryens et iraniens en Asie Centrale. Paris.
- Herrmann G., 1968. Lapis Lazuli: the Early Phase of Trade//Iraq. Vol. 30.
- Lombardo G., 2004. The metallurgy of Southern Tajikistan farming sites in the Late Bronze -Early Iron Age and its relations with the Namazga VI and Andronovo cultures//У истоков цивилизации: Сб. статей к 75-летию Виктора Ивановича Сарианиди. М.
- Masson V.M., Sarianidi V.I., 1972. Central Asia: Turkmenia before the Achaemenids. Southampton.
- Pettier M.-H., 1984. Materiel funeraire de la Bactriane Meridionale de l'age du bronze. Paris.
- Potts Т., 1994. Mesopotamia and the East: An Archaeological and Historical Study of Foreign Relations 3400-2000. Oxford.
- Sarianidi V., 1998. Myths of Ancient Bactria and Margiana on its Seals and Amulets. Moscow.
- Tosi M., 1973. Early Urban Evolution and Settlement Patterns in the Indo-Iranian Borderland // The Explanation of Cultural Change: Models in Prehistory / Ed. by C. Renfrew. Pittsburgh. Tosi M, 1974. The Notion of Craft Specialization and its Representation in the Archaeological Record of Early State in the Turan Basin // Marxist Perspectives in Archaeology. Cambrige. Tosi M, Lamberg-Karlovsky K., 2003. Pathways across Eurasia // Art of the Third Millenium B.C. from the Mediterranean to the Indus / Eds. J. Aruz and R. Wallenfeels. The Metropolitan Museum of Art. New York; New Haven; London.