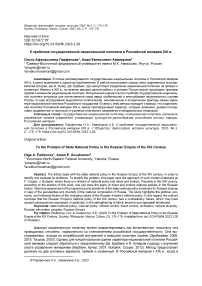К проблеме государственной национальной политики в Российской империи XIX в
Автор: Парфенова Ольга Афанасьевна, Аввакумов Аман Евгеньевич
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 3, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается государственная национальная политика в Российской империи XIX в. в целях выявления и оценки ее проблематики. В работе использован подход таких современных исследователей истории, как Ф. Купер, Дж. Бербанк, где присутствует разделение национальной политики на прямую и косвенную. Именно в XIX в., по мнению авторов данной работы, в истории России можно проследить признаки прямой и косвенной национальной политики. Историческая оценка опыта и проблем государственной национальной политики актуальна для отечественной науки ввиду особенностей и многообразия национального состава России. В ходе исследования выделяются политические, экономические и исторические факторы смены характера национальной политики Российского государства. В связи с этим авторы приходят к выводу, что национальная политика Российской империи XIX в. имела противоречивый характер, который, возможно, вызвал последствия, выраженные, в частности, в усилении этнического напряжения и сепаратистских тенденций.
Государственная национальная политика, колониальная политика, косвенное управление, прямое управление, унификация, культурное разнообразие, российские этносы, народы, российская империя
Короткий адрес: https://sciup.org/149142484
IDR: 149142484 | УДК: 327(47)“18” | DOI: 10.24158/fik.2023.3.26
Текст научной статьи К проблеме государственной национальной политики в Российской империи XIX в
окончательном виде сложились мировые империи, был распространен преимущественно косвенный способ управления территориями. Прямая колониальная политика, или политика унификации, предусматривает ассимиляцию народов, проживающих на территории империи, а также унификацию колониальной администрации в единую систему власти. Примерами прямой колониальной политики можно считать Римскую империю и Французскую империю XIX в. Косвенный тип управления владениями подразумевает наделение широкими полномочиями местных элит (Каппелер, 2007). При таком типе управления наблюдается культурная дистанция между метрополией и периферией.
Как уже отмечено, в историческом опыте России преимущественно реализовывался косвенный тип управления колониями. Его признаки прослеживаются в истории страны наряду с особенностями территориальной экспансии. Возможно, для царской администрации было выгоднее заключать соглашения с элитой той территории, которая входила в российское подданство. Так, по переписи 1897 г. только 53 % потомственных дворян называли родным языком русский. Это свидетельствовало о том, что почти половину российского дворянства составляли потомки польской шляхты, украинских казачьих старшин, остзейских рыцарей, грузинских князей, мусульманских ханов и беков. Через этническую аристократию предположительно легче было договариваться посредством дарования им привилегий и чинов. Местная элита являлась фактической властью над местным населением, соответственно, они могли в интересах Российского государства контролировать жизнедеятельность коренного этноса.
При этом местная элита после принятия подданства практически включалась в формальный управляющий состав. Например, шамхал тарковский, польский шляхтич, после принятия подданства России в 1793 г. был произведен в тайные советники с назначением жалованья в 6 тыс. р. в год на содержание войска1. В 1799 г. он был возведен в чин генерал-лейтенанта. Аварский хан имел чин генерал-майора. Даже кадий табасаранский, лицо духовное, тем не менее имел чин полковника Российской армии. В Жалованной грамоте от 28 августа 1801 г. бакинскому владельцу Гусейн-Кули-Хану Александр I писал: «Всемилостивейшее приемля Вас и всех Ваших подданных с принадлежащими области местами и селениями в высшее Наше подданство и покровительство, надеемся, что Вы сможете управлять с кротостью, подвластный Вам народ держать в порядке, правосудием каждого по законам и обыкновениям тех мест довольствовать»2.
Однако не ко всем присоединяемым был единый подход. Предоставление самоуправления местным элитам зависело от интересов центра, а также характера присоединения новой территории. Например, Российское государство в отношении черкесов в XIX в. применило стратегию физического уничтожения и переселения в соседнюю Османскую империю. Опыт присоединения и управления новыми территориями был разнообразным. Таким образом, неоднородный характер присоединения и дальнейшие взаимоотношения с местными элитами присоединяемых территорий подтверждают утверждение о том, что традиционная национальная политика выстраивалась стихийно.
В 1822 г. вышел Устав об управлении инородцев М.М. Сперанского, где определялись политико-правовой статус нерусского населения империи и в целом подходы национальной политики3. Инородцы были разделены три категории: оседлые, бродячие (ненцы, коряки, юкагиры и другие охотничьи народы северной Сибири), кочевые (буряты, якуты, эвенки, хакасы и др.). В документе отразились основные аспекты национальной политики страны. Неравное правовое положение некоторых категорий инородцев является отражением не угнетения, а прагматичного подхода к учету их самобытности. В Уставе детально описываются образ жизни, уровень исторического развития разных «родов», населявших империю. Особое внимание в документе уделялось двум категориям инородцев: бродячим и кочевым. Оседлые ввиду образа жизни и исторического развития, имевших сходство с таковыми русского народа, пользовались общим подданством империи и исполняли аналогичные повинности. Важнейшим моментом Устава в отношении кочевых и бродячих инородцев было то, что им разрешалось создавать собственные «степные» учреждения самоуправления, куда главным образом избирались представители местного населения для решения хозяйственных вопросов, исходя из особенностей их образа жизни и самобытности (Фадеичева, 2003).
Например, Якутский край был ключевым регионом Дальнего Востока, который служил узлом товарного обеспечения отдаленных регионов, в частности Камчатки, Чукотки и северных районов. Якутский этнос в те времена был многочисленным народом, населявшим территории Восточной Сибири, он активно приобщался к товарно-денежным отношениям со второй половины XVII в. Якутская степная дума оказывала правовую и финансовую поддержку местным купцам и перевозчикам, которые в тот момент сильно нуждались в них (Моякунова, 2008; Петухова, 2011; Попов, 2005). На местах, по улусам, Уставом кочевым народам предоставлялось самоуправление через старост, избираемых и утверждаемых губернским управлением. Данная двухуровневая система управления аборигенным населением была схожа с практикой Британской империи, которая при управлении Нигерией прибегала к соглашениям с местными вождями для осуществления контроля и сбора налогов от их лица на локальном уровне (Лисенков, 2020). Вышестоящим являлся назначаемый британским правительством губернатор. Такое сходство обозначает единый тип метода управления – косвенный.
Устав был наиболее значимым правовым актом. Политика «мягкой руки», которая прослеживается в документе, скорее всего объясняется политическими и экономическими причинами. Политические основывались на соображениях внутренней стабильности и внешней безопасности. С экономической точки зрения было выгоднее обеспечивать разнородность и сохранять традиционные хозяйства, разграничивая их проживание чертой оседлости, увеличивать численность местного населения, ограничивая бесконтрольную продажу алкогольных напитков на данных территориях и поощряя современные медицинские практики. Все это делалось потому, что здоровье и численность коренного населения означали большие объемы поступлений от ясака (государственного налога) и иных выплат.
Подобная национальная политика выстроила систему «свой-чужой» в отношениях центра и периферии, так как ассимиляция в Российской империи, где был распространен косвенный подход к управлению владениями, могла быть преимущественно добровольной. Империя поощряла переход к православию и изучение русского языка, однако скорее не заставляла. Было престижно обладать определенным уровнем грамотности и владеть русским языком. Государство демонстрировало охранительскую позицию в сохранении самобытности инородцев. Сама ассимиляция историками и социологами объясняется развитостью русской культуры в сравнении с культурами кочевых и бродячих народов, что само собой подразумевает естественное принятие элементов и образа жизни более прогрессивной культуры (Киор, 2010).
Не все положения Устава об инородцах были реализованы на практике. Права этносов, предусмотренные в документе, были исполнены не в полной мере. Реализовывать нововведения и контролировать их осуществление было сложно ввиду системных бюрократических факторов. Политика императора Николая I после попытки переворота, осуществленной декабристами в 1825 г., была ориентирована на откат от либеральных преобразований александровской эпохи.
Несмотря на преобладание признаков косвенного государственного управления, в истории России имперского периода встречались и проявления прямого типа. В последней трети ХIХ в. Александр II начинает политику консолидации этнического ядра империи – русской народности (русских, белорусов, украинцев). Эту тенденцию продолжил Александр III, который был убежден в том, что в Российской империи должны господствовать русская государственность (русские учреждения), русский язык и уважение к православной религии. Обновление направлений и принципов национальной политики империостроительства позволяло монархии проводить модернизацию под знаком русификации, которая в тех условиях означала не преимущества и привилегии для русских, но прежде всего систематизацию и унификацию управления (Киор, 2010: 207). Такая смена подхода к национальной политике в рассматриваемый период скорее объясняется трансформацией всего политического курса страны в сторону реакции. Причинами изменения политического курса, возможно, являются либерально-революционные события в Европе и России первой половины XIX в.
Со временем данная практика выявила определенные трудности, поскольку всецелая унификация способов управления не соответствовала территориальным и этнокультурным особенностям, а также специфике формирования самой империи. В 1880 г. генерал-губернатор Д.Г. Анучин, подводя итоги собственного опыта работы в Сибири и Средней Азии, писал: «При всяком увеличении нашей территории, путем ли завоевания или путем частной инициативы, вновь присоединенные области не включались в состав государства с общим управлением, а связывались с Империей через посредство наместников или генерал-губернаторов как представителей верховной власти, причем на окраинных наших областях вводились самые необходимые наши учреждения в самой простой форме, сообразно с потребностями населения страны, нередко с сохранением многих из прежних органов управления»1. Царская администрация постепенно уясняла для себя, что для полноценного управления огромными пространствами по какому-то одному алгоритму у правительства не хватит ни опыта, ни средств, ни кадров. Свидетельством этого является то, что на территориях бывшей Российской империи сохранилось большое разнообразие этнокультурных образований, некоторые из которых практически не подверглись влиянию русской культуры и сберегли свои культурные традиции.
Таким образом, российская национальная политика XIX в., выстроенная косвенным способом ввиду этнотерриториальных особенностей, в условиях модернизации и либеральных тенденций обнаружила проблему, исходившую от смены курса политики в сторону реакции, которая определила последствия, выраженные в усилении этнического напряжения и сепаратистских тенденций.
Косвенный тип управления колониями, как показывает опыт Российской и Британской империй, выстраивает систему «свой-чужой», при которой у подчиненных народов не формируется чувство принадлежности к единой стране. В таких условиях резкая смена курса национальной политики в сторону прямого управления приводит к напряженности в межнациональных отношениях. Соответственно, можно предположить, что национальная политика XIX в. усилила национальный фактор распада страны уже в начале XX в. Тем не менее положительным аспектом национальной политики можно считать то, что особый подход в управлении народами со стороны власти позволил сохранить многообразный этнический и культурный состав.
Список литературы К проблеме государственной национальной политики в Российской империи XIX в
- Бербанк Дж., Купер Ф. Траектории империи // Ab Imperio. 2007. № 4. С. 47-85. https://doi.org/10.1353/imp.2007.0079.
- Дробижева Л.М. Государственная и этническая идентичность: выбор и подвижность // Гражданские, этнические и религиозные идентичности в современной России. М., 2006. С. 10-29.
- Дробижева Л.М. Межнациональное согласие: концептуальные подходы и социальная практика в российском обществе // Российский Кавказ: проблемы, поиски, решения. М., 2015. С. 377-384.
- Каппелер А. Центр и элиты периферий в Габсбургской, Российской и Османской империях (1700-1918 гг.) // Ab Imperio. 2007. № 2. С. 17-58.
- Киор В.Б. Государственная национальная политика в имперской России // Вестник РГГУ. Серия: Политология. История. Международные отношения. Зарубежное регионоведение. Востоковедение. 2010. № 4 (47). С. 204-217.
- Лисенков О.О. Империи нового времени: принципы управления колониями. Пример Британии и Франции // Genesis: исторические исследования. 2020. № 6. С. 38-58. https://doi.org/10.25136/2409-868X.2020.6.33316.
- Моякунова А.А. Из истории формирования национальной элиты в Якутии (конец XVII-XVIII в.) // Известия Алтайского государственного университета. 2008. № 4-5 (60). С. 146-148.
- Петухова З.И. Инициативы якутской степной думы по расширению полномочий // Вестник Бурятского государственного университета. 2011. № 7. С. 28-32.
- Попов Г.А. Сочинения: в 7 т. Якутск, 2005. Т. 1. История христианского просвещения якутов и других инородцев Якутской области. Очерки по истории Якутии. 275 с.
- Тишков В.А. Реквием по этносу: исследования по социально-культурной антропологии. М., 2003. 544 с.
- Фадеичева М.А. Этническая политика в Российской империи XIX в. «Положение об Инородцах» // Научный ежегодник Института философии и права Уральского отделения Российской академии наук. 2003. № 4. С. 369-382.
- Burbank J., Cooper F. The Empire Effect // Public Culture. 2012. Vol. 24, iss. 2. P. 239-247. https://doi.org/10.1215/08992363-1535480.