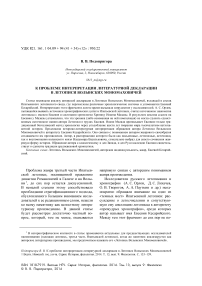К проблеме интерпретации литературной декларации в Летописи Волынских Мономаховичей
Автор: Подопригора Василий Вячеславович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Литературоведение и текстология
Статья в выпуске: 9 т.13, 2014 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу авторской декларации в Летописи Волынских Мономаховичей, входящей в состав Ипатьевского летописного свода, где перечислены различные хронологические системы и упоминается Евсевий Кесарийский. Интерпретация этого фрагмента долгое времявызывала затруднения у исследователей. А. С. Орлов, пытавшийся выявитьисточники хронографических цитат в Ипатьевскойлетописи, считалисточником знакомства летописца с именем Евсевия и системами хронологии Хронику Иоанна Малалы. В результате анализа ссылок на Евсевия у Малалы установлено, что эта хроника (либо основанная на ней компиляция) не могла служить единственным источником знания автора Летописи о трудах Евсевия. Иоанн Малала приписывает Евсевию только традиционный богословский метод хронологии через уподобление шести лет творения мира тысячелетиям ветхозаветной истории. Предложена историко-литературная интерпретация обращения автора Летописи Волынских Мономаховичей к авторитету Евсевия Кесарийского. Оно связано с пониманием автором жанрового своеобразия создаваемого им произведения. Автор, в распоряжении которого были как письменные, летописные, источники, так и воспоминания волынского князя Владимира Васильковича, сознательно выбрал для своего сочинения жанровую форму истории. Обращение автора к классическому и для Запада, и для Руси наследию Евсевия свидетельствует оединстве традиции средневековой хронистики.
Летопись волынских мономаховичей, авторская индивидуальность, жанр, евсевий кесарийский
Короткий адрес: https://sciup.org/147219190
IDR: 147219190 | УДК: 821.
Текст научной статьи К проблеме интерпретации литературной декларации в Летописи Волынских Мономаховичей
Проблема жанра третьей части Ипатьевской летописи, посвященной правлению династии Романовичей в Галиче и на Волыни 1, до сих пор остается дискуссионной. В немалой степени этому способствовало преобладание стратификационного подхода, обусловленного большим вниманием исследователей к ее редакционным слоям, нежели ко всему памятнику как целостному литературному произведению. В данной статье будет рассмотрен достаточно частный вопрос, который, тем не менее, оказывается напрямую связан с авторским пониманием жанра произведения.
Исследователи русского летописания и хронографии (А. С. Орлов, Д. С. Лихачев, О. В. Творогов, А. А. Пауткин и др.) неоднократно обращали внимание на одно из «темных мест» Ипатьевской летописи: рассуждение о летосчислении и сопутствующую ему апелляцию летописца к авторитету «премудрых хронографов», среди которых автор называет имя Евсевия Кесарийского. Между тем этот фрагмент до сих пор не по- лучил удовлетворительной интерпретации [Аристов, 2013. С. 120]. Приведем его целиком по Хлебниковскому списку 2: «Гроно-графу же ноужа есть писати все и вся вывшаа: овогда ж писати въ предняя, овогда же въступати в задняя - чтыи мудрыи разумеет. Число же летом зде не писахом, в задняя впишемь: по Анти-охийскымъ събором 3, аломпиадам Грьц-кими же числьницами, Римскы же выси-костом, якоже Овсевии4 Памфилово и инии гронографи списаша от Адама до Хр(и)стоса. Вся же лета спишемь, рос-четше в задняа» (Ипат., 820).
А. С. Орлов, наиболее детально проанализировавший библейско-хронографические цитаты в Ипатьевской летописи, источником знания летописца о системах хронологии считал в первую очередь хроники Георгия Амартола и Иоанна Малалы в составе хронографической компиляции галицко-волынского происхождения, составленной около 1262 г. 5 Из Хроники Малалы, по мнению ученого, летописцу могло быть известно имя кесарийского епископа в форме «Евсевии Памфилов» в отличие от «Пан-филичь» в русском переводе Амартола [Орлов, 1926. С. 108]. Отсылки к Евсевию во множестве содержатся в первых десяти книгах Хроники Иоанны Малалы 6. В то же время исследователь отметил, что «всё рассуждение 1254 г. о летосчислении следовало бы пересмотреть для уточнения источников» [Там же].
Следуя рекомендации А. С. Орлова, обратимся к тем местам Хроники, где Малала упоминает кесарийского епископа 7. Ссылки на труды Евсевия встречаются у Малалы в следующих контекстах. В VII книге со ссылкой на Евсевия приводится расчет лет правления Филиппа в Македонии [Истрин, 1994. С. 197], в VIII книге отсылка к Евсевию сопровождает рассказы о победе Октавиана над Клеопатрой и пленении Иерусалима Антиохом Эпифаном [Там же. С. 220, 224]. На Евсевия Иоанн Малала ссылается в X книге, упомянув, что после Петра в Риме епископом стал Аниос [Там же. С. 279], по приводимым в Хронике сведениям Евсевия Христос был распят во время иудейского праздника, в « праздникъ их » произошло и третье пленение Иерусалима при Веспасиане [Там же. С. 281].
Во вступлении к X книге Хроники читается рассуждение о расчете лет от Адама до Христа, где упомянут среди других «хронографов» 8 и Евсевий Кесарийский: «Евсевии же Памфилиискыи в шестую тысящю лет глаголет и си явльшася Спаса Христа по числу шести ден сътворениа Адамова. Пред скончянием же шестаго лета, рече, якоже явися на земли Господь и Бог наш Христос избавити род человеческыи» [Ис-трин, 1994. С. 260]. Этим перечнем ограничиваются сведения о Евсевии в том объеме Хроники Малалы, в каком она вошла в состав Иудейского хронографа, т. е. до X книги включительно. Приведенную цитату из Хроники и можно было бы счесть источником знания автора Летописи Волынских Мономаховичей о Евсевии Кесарийском. Однако автор нашей летописи явно упоминает о синхронизации систем исчисления времени, перечисляя счет по олимпиадам и високостам и антиохийскую эру. Иоанн Малала в X книге сообщает только о символическом (экзегетическом) методе хронологии Евсевия Памфила, уподоблении шести дней творения шести прошедшим от Сотворения Адама до Боговоплощения тысячелетиям человеческой истории, ничего не упоминая о синхронизации им различных систем хронологии.
К перечисленным А. С. Орловым возможным источникам познаний летописца необходимо также добавить выборку из сочинений самого Евсевия в составе Изборника 1073 г., вероятно, восходящих к его Хронике 9. Этот комплекс текстов, судя по оглавлению Архивской рукописи, входил в состав ее несохранившегося раздела, «Главы Соборьника числомъ» (на л. 724) 10. Здесь именно Евсевием описаны различия систем летосчисления Востока и Запада, упоминаются юлианский календарь и висо- косты. «Соборник» вполне мог быть доступен работавшему на Волыни летописцу. Так, А. С. Орлов высказывал предположение, что этот «Соборник», имевший в основе Изборник 1073 г., дополненный законодательными главами, возможно, тождественен упоминаемому в летописи «съборнику» князя Василька Романовича (Ипат., 925).
Давно отмечена параллель между началом XVIII книги Хроники Малалы, вошедшей в состав Еллинского летописца, и Ипатьевской летописью [Орлов, 1926. С. 106]. Само по себе использование автором фразы « гронографу же ноужа есть писати » (см. выше), находящей частичное соответствие в тексте XVIII книги Хроники Малалы 11, еще не может считаться свидетельством его ориентации на Хронику Малалы как литературный образец. Тем более что в этой декларации автор оправдывает со ссылкой на авторитет «премудрых хронографов» право на свободное изложение исторического повествования (« овогда ж писати въ пред-няя, овогда же въступати в задняя »). Иоанн Малала же рекомендует читателю сверять перечисления царствований с хронологическими исчислениями: « Хронографу ноужда есть писати вси, еликоже есть, кыи убо царствовал царь, отнележе бысть наречен царь. Лепо есть убо чтущему летняя списания количества смот-рити мимотекущих лет, а не точию от предписанных царствех » [Истрин, 1994. С. 359].
При наличии определенных стилистических параллелей между двумя произведениями, для летописца Хроника, по всей видимости, не выступала в качестве жанрового образца. Так, для построения Хроники Малалы характерно введение хронологических исчислений либо во вступлениях к разделам-книгам, либо в их эпилогах. Намерение автора Летописи Волынских Моно-маховичей привести расчеты по окончании труда («Вся же лета спишемь, росчетше в задняа») предполагало бы скорее присоединение отдельной хронологической таблицы в конце повествования, а не переработку всего текста с целью внесения годовых датировок 12. Именно такую возможность допускал М. Д. Приселков [1996. C. 293].
Кроме того, как было показано выше, Хроника Иоанна Малалы ничего не сообщает о синхронизации различных хронологических систем (греко-римской и восточных) Евсевием Кесарийским, упоминая только его «символический» метод счисления лет (расчет лет от Адама до Христа) 13. Тогда как автор Летописи Волынских Мономахо-вичей среди «иных гронографов» выделяет именно Евсевия Памфила. Поэтому знание нашим автором роли Евсевия как основателя хронографического летосчисления не имеет в обязательном порядке своим источником лишь текст Хроники Малалы либо основанной на ней компиляции, где речь идет только о подсчете «премудрыми хронографами» числа лет от Сотворения Адама до Боговоплощения.
Само обещание привести хронологическую таблицу («число летомъ») в отдельном разделе дает основания предполагать представление автора Летописи Волынских Мо-номаховичей о Хронике (Chronicon) Евсевия, состоявшей из повествовательной части (Chronographia) и синхронистических таблиц (Chronici canones), где приводятся параллельные хронологические таблицы событий по «годам Авраама», олимпиадам и периодам царствований римских императоров. Для того чтобы установить, в каком виде могла быть известна Хроника Евсевия на Руси в XIII в., требуются дополнительные изыскания. Пока можно предположить, что «Хроника», помимо фрагментов в «Со-борнике», могла быть знакома книжнику по греческому 14 оригиналу либо по армянской 15 версии.
Вопрос ориентации автора на Евсевия может быть поставлен и в несколько ином ключе, чем предлагал А. С. Орлов. Следует обратить внимание не столько на источники познаний автора, сколько попытаться интерпретировать его декларацию как своеобразный «литературный жест». Как можно с историко-литературной точки зрения объяснить апелляцию писателя-историка XIII в. к авторитету Евсевия?
Для обоснования своего намерения вести свободное от погодной сетки историческое повествование автор ссылается на авторитет «хронографов», которым надлежит описывать события в их прагматической связи. Эта установка, как нам представляется, может объяснить свободное обращение автора с источниками.
С большей или меньшей степенью доказательности исследователями были установлены источники третьей части Ипатьевской летописи, среди которых называются источники, в своем оригинальном виде представлявшие собой летописи, разбитые на традиционные погодные статьи. Так, в распоряжении автора Летописи Волынских Мо-номаховичей мог быть летописный источник киевского происхождения 16. А. Ю. Бородихиным было установлено привлечение владимирского свода Ярослава Всеволодови- ча 17. По всей видимости, в распоряжении автора были и местные летописные материалы (возможно, княжеские или епископские летописцы Владимира Волынского). К источнику такого рода, в частности, могут восходить вплетенные в общий строй повествования эпизоды войн с литовцами и ят-вягами на окраинах Волыни (Ипат., 721, 751, 776, 797–800, 808). Множество подробностей – названия волынских городов, имена павших русских воевод, количество убитых ятвяжских и литовских вождей – позволяют предположить здесь отражение текущего местного летописания. Замечания автора от первого лица указывают на использование обильных сведений из подобного источника: «...и в ина времена Божиею милостью избьени быша погании, их же не хотехом писати от множства ради» (Ипат., 800).
Существование погодного владимирского летописания может косвенно доказываться приведением срока правлений волынских (княжение Владимира Васильковича длилось 25 лет) и литовских (Тройден княжил в Литве 12 лет) князей. Предположим, что этот источник мог содержать дату смерти Шварна Даниловича, о сроке княжения которого автор замечает, что тот « княживъ же немного лет » (Ипат., 869). Пользуясь его данными, летописец мог подсчитать срок правления Тройдена, сменившего Шварна на литовском княжении.
Таким образом, избранная автором форма повествования была, прежде всего, обусловлена сознательным выбором жанра, а не вызвана недостатком датировок в имевшихся в его распоряжении источниках. При составлении своего труда перед автором стояла та же задача, что перед самим Евсевием Кесарийским, который писал в предисловии к первой книге «Церковной истории»: «…Все, что в их там и сям рассеянных воспоминаниях (здесь Евсевий имеет в виду свидетельства своих предшественников. – В. П.) я сочту полезным для поставленной себе цели, я соберу; словно на лугу духовном, я, как цветы, подбираю у старых писателей нужные мне сведения и стараюсь предста- вить их в историческом повествовании как нечто цельное» [Евсевий Памфил, 2005. С. 12]. Автор Летописи Волынских Моно-маховичей в ходе работы над сочинением столкнулся с необходимостью в собственной последовательности рассказать о событиях, известных как по устным, так и по письменным источникам. Особое внимание автора к лежавшему четыре года в болезни Владимиру Васильковичу может свидетельствовать о привлечении автором и воспоминаний князя как участника событий.
Литературная позиция книжника вписывается, как нам представляется, в единую традицию классической хронистики, где «редкий автор раннесредневековой хроники в предисловии к своему сочинению не воздавал хвалу Евсевию как родоначальнику жанра» [Тюленев, 2005. С. 75]. Так, на Хронику Евсевия как на литературный образец указывал в предисловии к своей «Хронографии» XII в. валлонский монах Сигеберт [Вайнштейн, 1964. С. 153]. Ранее на авторитет Евсевия в хронологии ссылался Григорий Турский 18.
Французский культуролог и историк Бернар Гене писал о понимании жанра «истории» на латинском Западе: «В “истории” приоритет был отдан повествованию. Разумеется, историк всегда почитал своим долгом придерживаться хронологического порядка. Но от него не ожидали точных дат, и он их практически никогда не давал. Зато его повествование было возвышенно и развивалось по всем правилам риторики. Историям обязательно была присуща prolixitas (протяженность), точно так же как хроникам brevitas (краткость). Так, историки, наиболее верные традиции, восходившей к Евсевию Кесарийскому, четко разграничивали <…> истории, в которых темы исследовались глубоко, и хроники, основной задачей которых было отметить время и вкратце изложить события» [Гене, 2002. С. 238]. Обращение к наследию Евсевия свидетельствует о том, что автор Летописи Волынских Мо-номаховичей понимал жанр «истории» в той же интерпретации, что и западные средневековые писатели 19. Следуя сознательному выбору жанра, автор повествует об истории почти трех поколений княжеского рода со времен детских лет Даниила и Василька Романовичей. Жанрово обусловлена гибкая временная структура сочинения, изложение событий по авторскому плану, а не по ряду годовых статей.
А. А. Шахматов писал, что русское летописание, используя Никифоров «Летописец вскоре», восприняло хронологию и форму годовых статей. В XIII в. на Волыни, в первую очередь при дворе Владимира Васильковича, происходит активное обращение к классическому литературному наследию. С использованием ранних русских переводов хроники Малалы, «Истории Иудейской войны» Иосифа Флавия и других переводных сочинений во второй половине XIII в. создается протограф Архивского и Виленского списков хронографов. В этом контексте становится понятной ориентация автора Летописи Волынских Мономаховичей на Евсевия Кесарийского. Печерский игумен Агапит, которого мы считаем автором всего произведения [Подопригора, 2014. С. 14], отходит от традиций XII в., обращаясь к авторитету Евсевия, что объясняет избранную им форму организации исторического повествования и отражает предвозрожденческие тенденции в литературном процессе эпохи.
Список литературы К проблеме интерпретации литературной декларации в Летописи Волынских Мономаховичей
- Аристов В. Ю. Свод, сборник или хроника? (О характере древнерусских летописных памятников XI-XIII вв.) // Studia Slavica et Balcanica Petropolitana. СПб., 2013. № 1. Январь-июнь. С. 105-129.
- Бибиков М. В. Византийский прототип древнейшей славянской книги (Изборник Святослава 1073 г.). М.: Памятники исторической мысли, 1996.
- Болотов В. В. Лекции по истории древней церкви. СПб., 1907. Т. 1.
- Вайнштейн О. Л. Западноевропейская средневековая историография. М.; Л.: Наука, 1964.
- Вилкул Т. Л. Иудейский и Софийский хронографы в истории древнерусской хронографии // Palaeoslavica. Cambridge. MA. 2009. Vol. 17. No. 2. P. 69-86.
- Гене Б. История и историческая культура Средневекового Запада. М.: Языки славянской культуры, 2002. 496 с.
- Дергачева-Скоп Е. И. Сибирские летописи в исторической прозе XVII века: текст-контекст // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2002. Т. 1, вып. 1: Филология. С. 3-12.
- Орлов А. С. К вопросу об Ипатьевской летописи // Изв. Отд-ния русского языка и словесности Академии наук. Л., 1926. Т. 31. С. 93-126.
- Подопригора В. В. К проблеме авторства Летописи Волынских Мономаховичей // Материалы 52-й Междунар. науч. студ. конф. МНСК-2014: Литературоведение / Новосиб. гос. ун-т. Новосибирск, 2014. С. 13-14.
- Приселков М. Д. Летописание Западной Украины и Белоруссии // Приселков М. Д. История русского летописания XI-XV вв. СПб.: Дмитрий Буланин, 1996. С. 283-302.
- Тюленев В. М. Рождение латинской христианской историографии. СПб.: Издательство Олега Абышко, 2005. 228 с.