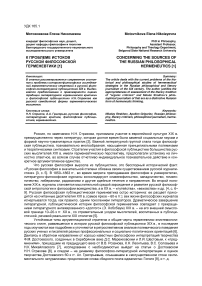К проблеме истоков русской философской герменевтики
Автор: Мотовникова Елена Николаевна
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Философские науки
Статья в выпуске: 21, 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются современное состояние и проблемы историко-философских исследований герменевтических стратегий в русской философско-литературной публицистике XIX в. Выдвигается предположение о правомерности оценки традиции литературной «органической критики» и философской публицистики Н.Н. Страхова как русской самобытной формы герменевтического мышления.
Н.н. страхов, а.а. григорьев, русская философия, литературная критика, философская публицистика, герменевтика
Короткий адрес: https://sciup.org/14937823
IDR: 14937823 | УДК: 165.1
Текст научной статьи К проблеме истоков русской философской герменевтики
Россия, по замечанию Н.Н. Страхова, принимала участие в европейской культуре XIX в. преимущественно через литературу, которая долгое время была заменой социальным наукам и формой научно-гуманитарных практик [2]. Важной литературной группой стала тогда философская публицистика, познавательно многообразная, насыщенная принципиальными полемиками и теоретическими синтезами. Стратегии участия в философской публицистике большинства русских мыслителей XIX в. имели герменевтическую перспективу, предполагали установку на личностно ответное, во всяком случае отчетливо индивидуальное познавательное действие и конкретное аргументативное единство.
Что русская философия выросла из публицистики, это бесспорный исторический факт: «Русская философия в значительной степени обязана своим существованием русской журналистике» [3, c. 5]. В 1850–1863 гг., во время запрета преподавания философии в университетах, литературно-философские журналы консолидируют славянофильство, западничество, почвенничество, либерализм, радикализм и другие идейные течения и направления. Во второй половине XIX в. журналы становятся мыслительной средой зарождения и развития русской философской антропологии и философии всеединства, а в ХХ в. – «путейства», «веховства» и др. [4, c. 6– 9]. Русская философская публицистическая герменевтика остро исторична: ее расцвет приходится на считанные десятилетия XIX в. (самое яркое – 60-е гг.); век жизни философских журналов исчерпывался тогда, как правило, одним поколением литераторов. Драматическое завершение литературной, публицистической истории философской герменевтики совпадает с прекращением литературного ангажированного «долгого» (Э. Хобсбаум) XIX в. – на его внешней смысловой границе 10–20-х гг. ХХ в., со стремительным уходом мыслителей, воспитанных в публицистичной, речевой реальности XIX столетия [5].
Устойчивые типы аргументационной стратегии и общие черты герменевтико-эпистемологического стиля, развившегося в истории русской философской публицистики XIX в., в последние годы изучаются все подробнее и уточняются в ретроспективном анализе полемического поведения русских ученых и писателей разных профессиональных и социально-политических ориентаций [6]. Двигаясь в обратном направлении от хорошо известных философских интерпретаций творчества Ф.М. Достоевского, созданных в Серебряном веке Д.С. Мережковским и Л.И. Шестовым, к «пред-мнениям», пришедшим из предыдущего века от В.В. Розанова, К.Н. Леонтьева, В.С. Соловьева и Н.К. Михайловского [7], исследование с необходимостью выйдет на статьи о Достоевском Н.Н. Страхова [8], а следом – на динамику философско-литературной интерпретации и оценок творчества Достоевского 60-х гг. Ап. Григорьевым, слышавшим в «могущественном стоне сентиментального натурализма» продолжение слова «бедного поэта-идеалиста» Гоголя [9], и т. д.
Важным подтверждением актуальности герменевтической проблемы в русской философской публицистике XIX в. являются теоретико-методологические исследования историков русской литературной критики. Для сегодняшних философско-филологических изысканий особенно полезен опыт М.Г. Зельдовича, еще в 1960–80-е гг. ставившего задачу осознать историю литературной критики как целостный органический процесс, как вид «творческого поведения» (М.М. Пришвин), нуждающегося в самосознании творческого субъекта [10]. М.Г. Зельдович, подойдя к проблеме постижения субъективной стороны критического творчества, вынужден был констатировать, что «до сих пор отсутствует хотя бы рабочая гипотеза о сущности и параметрах творческой индивидуальности критика» [11, с. 53]. Практическую реализацию такой развитой критической индивидуальности М.Г. Зельдович обнаружил в лице Ап. Григорьева, автора единственной в своем роде программы литературной критики своего времени. Именно концептуальная программность, первая в русской литературной критике осознанная отчетливая структурированность литературного процесса на определенной теоретико-методологической (философской) основе, по справедливой оценке М.Г. Зельдовича, определяет «и масштабность работы Григорьева, и ее уникальность как свидетельства участника литературного движения» [12].
Показательно само по себе и, полагаю, перспективно для дальнейших исследований русской герменевтики то, как М.Г. Зельдович формулирует характерные черты григорьевской программы литературной критики: «Григорьев не только “выступает” с программой, “манифестирует” ее, но и создает, формулирует … в прямом, по преимуществу полемическом, общении с критиками других направлений, с их программными же установками, с творческой практикой. … Едва ли не главенствующая типологическая особенность доводов Григорьева – их многосторонность, комплексность, аналитическая полнота. …Отчетливое единство суждений философских, эстетических, этических, теоретико- и историко-литературных, теоретико- и историко-критических. …Аргументы детализированы и явно устремлены к убеждающей доказательности. Тем более что обычно они насквозь полемичны и в таком именно качестве просто-таки необходимы Григорьеву для утверждения своих идей» [13, с. 497–498]. М.Г. Зельдович тем самым актуализирует проблему теоретико-методологического статуса герменевтики в истории русской литературной критики как ведущего публицистического жанра XIX в.
Фактически работы М.Г. Зельдовича об Ап. Григорьеве раскрывают и подробно обосновывают идею В.В. Розанова, высказанную им в статье 1892 г. «Три момента в развитии русской критики» [14] и одобренную Н.Н. Страховым [15, с. 110], о «научном», исследовательском отношении григорьевской «органической критики» к литературным произведениям, сочетающем в себе и эстетическое, и историческое, и биографическое исследования – слова «герменевтика» В.В. Розанов не употреблял, так же как Н.Н. Страхов и Д.С. Мережковский [16]. Требует особого исследования вопрос о том, почему, несмотря на явное и недвусмысленное указание В.В. Розанова на Н.Н. Страхова как на продолжателя и истолкователя школы Ап. Григорьева, многие позднейшие исследователи «последнего романтика» как будто не замечают этой преемственности. И сегодня еще стилистическая мягкость Н.Н. Страхова [17] настораживает и «отпугивает» искателей надежных определений и классификаций. Так, Н.Г. Коптелова в диссертационном исследовании методологической и жанрово-стилевой специфики критического творчества того же Д.С. Мережковского, защищая тезис о его оригинальном синтезе многих методологических стратегий и продуктивном сочетании объективной и субъективной интерпретации литературных произведений [18, с. 11] и убедительно показывая Мережковского «прямым продолжателем критической программы Ап. Григорьева» [19, с. 10] и В.В. Розанова [20, с. 17], заявляет об отсутствии «наследников» этой программы в XIX в., хотя в розановской литературной биографии не заметить фактор Страхова, кажется, совершенно невозможно.
Именно в литературно-философской публицистике Ап. Григорьева и Н.Н. Страхова Н.П. Ильин нашел истоки самобытной русской национальной философии самопонимания как программу формирования «русского типа рациональности, или национальной культуры понимания , … затем поддержанную небольшой группой классиков русской философии» [21, c. 451]. Опираясь на это существенное историко-философское достижение Н.П. Ильина, можно двигаться дальше вглубь исторических предпосылок и контекстов этой по сути открытой им самобытной русской герменевтики: прояснения требуют, прежде всего, связи ее с русскими течениями шел-лингианства, гегельянства, органицизма, к которым были причастны Григорьев и Страхов – но не только они, и значит, можно ждать открытия новых имен, так или иначе связанных с русской герменевтической традицией.
Ссылки и примечания:
-
1. Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ проект № 13–03–00336 «Концептуальный каркас культурно-исторической эпистемологии и современные тенденции в методологии гуманитарных исследований».
-
2. Эта мысль проходит красной нитью через все литературно-публицистическое творчество Н.Н. Страхова и составляет основу смысла названия трех сборников его статей «Борьба с Западом в нашей литературе».
-
3. Замалеев А.Ф. Философия и русская журналистика // Вече. Журнал русской философии и культуры. 2009. Вып. 20. С. 5–9.
-
4. Там же.
-
5. Последним эпизодом этой истории можно считать полемику между философскими журналами «Под знаменем марксизма» («ПЗМ») и «Мысль» в 1922 г. (см. подробнее об этом: Мотовникова Е.Н. «Под знаменем марксизма» – «Мысль»: герменевтическая коллизия 1922 года // Вопросы философии. 2013. № 11. С. 123–136).
-
6. См., напр.: Гуторов В.А. Социально-политическая теория А.Д. Градовского // Вече. Альманах русской философии и культуры. 2007. Вып. 18. С. 169–214 ; Бажанов В.А., Баранец Н.Г. Полемика о способах аргументации и философском доказательстве на рубеже XIX–XX вв. // Там же. Вып. 18. С. 230–241.
-
7. См.: Бонецкая Н.К.: 1) Д.С. Мережковский: герменевтика и экзегетика // Вопросы философии. 2012. № 11. С. 97–113 ; 2) У истоков русской герменевтики // Там же. 2014. № 1. С. 83–91 ; 3) Предтечи русской герменевтики // Там же. № 4. С. 90–98.
-
8. См.: Страхов Н.Н. Ф.М. Достоевский. Преступление и наказание // Страхов Н.Н. Литературная критика. СПб., 2000. С. 96–123 и комментарий В.А. Котельникова на с. 437.
-
9. См.: Григорьев А.А. Реализм и идеализм в нашей литературе // Григорьев А.А. Сочинения : в 2 т. Т. 2. Статьи. Письма. М., 1990. С. 268.
-
10. Зельдович М.Г. «Творческое поведение». О феномене литературной критики, логике ее развития в русской культуре середины 19 века и общих принципах подобных штудий. Ч. 1 и 2. Харьков, 2010.
-
11. Там же.
-
12. Там же. С. 497. Оценка Ап. Григорьева как уникального по философско-методологическим качествам его работ критика впервые была высказана Н.Н. Страховым в предисловии к первому тому сочинений Ап. Григорьева. См.: Страхов Н.Н. Предисловие // Сочинения Аполлона Григорьева. Т. I. СПб., 1876. С. VIII–IX.
-
13. Зельдович М.Г. Указ. соч.
-
14. Розанов В.В. О трех фазисах в развитии нашей критики // Русское обозрение. 1892. № 8. С. 576–594.
-
15. Розанов В.В. Собрание сочинений. Литературные изгнанники: Н.Н. Страхов. К.Н. Леонтьев. М., 2001.
-
16. Не встречается это слово у Н.Н. Страхова и там, где он пишет о Шлейермахере. См.: Страхов Н.Н. О задачах истории философии // Философские очерки. 2-е изд. Киев, 1906. С. 451. Н.Н. Страхов старался не вводить без крайней необходимости термины и заимствования.
-
17. Д.И. Чижевский понимал ее и оправдывал: «…в создании философской традиции и философской культуры играют роль … и женственно чуткие и эстетически восприимчивые мыслители, смягчающие суровость и строгость рациональной мысли каким-то лирически окрашенным проникновением в многоразличные типы систем и мировоззрений, улавливающие всюду элементы правды…». См.: Чижевский Д.И. Гегель в России. СПб., 2007. С. 304.
-
18. Коптелова Н.Г. Специфика рецепции русской литературы XIX века в критике Д.С. Мережковского (1880–1917 гг.) : автореф. дис. … д-ра филол. наук. Кострома, 2001.
-
19. Там же.
-
20. Там же.
-
21. Ильин Н.П. Трагедия русской философии. М., 2008.
Список литературы К проблеме истоков русской философской герменевтики
- Замалеев А.Ф. Философия и русская журналистика//Вече. Журнал русской философии и культуры. 2009. Вып. 20. С. 5-9
- Мотовникова Е.Н. «Под знаменем марксизма» -«Мысль»: герменевтическая коллизия 1922 года//Вопросы философии. 2013. № 11. С. 123-136
- Гуторов В.А. Социально-политическая теория А.Д. Градовского//Вече. Альманах русской философии и культуры. 2007. Вып. 18. С. 169-214
- Бажанов В.А., Баранец Н.Г. Полемика о способах аргументации и философском доказательстве на рубеже XIX-XX вв.//Там же. Вып. 18. С. 230-241
- Бонецкая Н.К. Д.С. Мережковский: герменевтика и экзегетика//Вопросы философии. 2012. № 11. С. 97-113
- Бонецкая Н.К. У истоков русской герменевтики//Там же. 2014. № 1. С. 83-91
- Бонецкая Н.К. Предтечи русской герменевтики//Там же. № 4.
- Страхов H.H. Ф.М. Достоевский. Преступление и наказание//Страхов H.H. Литературная критика. СПб., 2000. С. 96-123
- Григорьев A.A. Реализм и идеализм в нашей литературе//Григорьев A.A. Сочинения: в 2т. Т. 2. Статьи. Письма. М., 1990. С. 268
- Зельдович М. Г. «Творческое поведение». О феномене литературной критики, логике ее развития в русской культуре середины 19 века и общих принципах подобных штудий. Ч. 1 и 2. Харьков, 2010
- Страхов H.H. Предисловие//Сочинения Аполлона Григорьева. T. I. СПб., 1876. C. VIII-IX
- Розанов В.В. О трех фазисах в развитии нашей критики//Русское обозрение. 1892. № 8. С. 576-594
- Розанов В.В. Собрание сочинений. Литературные изгнанники: Н.Н. Страхов. К.Н. Леонтьев. М., 2001
- Страхов Н.Н. О задачах истории философии//Философские очерки. 2-е изд. Киев, 1906. С. 451
- Чижевский Д.И. Гегель в России. СПб., 2007. С. 304
- Коптелова Н.Г. Специфика рецепции русской литературы XIX века в критике Д.С. Мережковского (1880-1917 гг.): автореф. дис.... д-ра филол. наук. Кострома, 2001
- Ильин Н.П. Трагедия русской философии. М., 2008