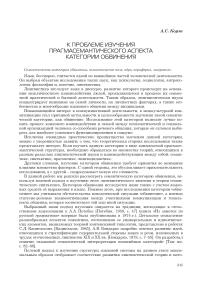К проблеме изучения прагмасемантического аспекта категории обвинения
Автор: Корж Анастасия Сергеевна
Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 3 (21), 2012 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена исследованию и анализу семантической категории обвинения как сложной прагмасемантической структуры на основании опыта известных лингвистов-ученых. Семантическая категория обвинения рассматривается с применением полевого подхода к изучению данного явления в контексте семантического синтаксиса. Категория обвинения также рассматривается нами с точки зрения языковых средств её выражения в языке с учётом обстоятельств поведенческой ситуации «обвинение», а именно статусно-ролевых отношений коммуникантов и тональности общения.
Семантическая категория обвинения, семантическое поле, ядро, периферия, микрополе
Короткий адрес: https://sciup.org/144153538
IDR: 144153538
Текст научной статьи К проблеме изучения прагмасемантического аспекта категории обвинения
Язык, бесспорно, считается одной из важнейших частей человеческой деятельности. Он выбран объектом исследования таких наук, как психология, социология, антропология, философия и, конечно, лингвистика.
Лингвистика исследует язык в дискурсе, развитие которого происходит на основании межличностного взаимодействия людей, проявляющегося в процессе их совместной практической и бытовой деятельности. Таким образом, лингвистическая наука концентрирует внимание на самой личности, на личностных факторах, а также особенностях и многообразии языкового общения между индивидами.
Повышающийся интерес к коммуникативной деятельности, к межкультурной коммуникации стал причиной актуальности и целесообразности изучения такой семантической категории, как обвинение. Исследование этой категории позволит лучше понять процесс языкового взаимодействия и связей между психологической и социальной организацией человека со способами речевого общения, которые он склонен выбирать для наиболее успешного функционирования в социуме.
Исключая очевидные практические преимущества изучения данной категории, можно с уверенностью заявить о том, что теоретическая сторона исследования также представляет интерес. Если изучать данную категорию в виде комплексной прагмасе-мантической структуры, необходимо обращаться ко множеству теорий, относящихся к разным разделам лингвистической науки и взаимодействующим между собой: семантике, синтактике, прагматике, лингводидактике.
Другими словами, изучение категории обвинения требует принятия во внимание влияния множества факторов. С одной стороны, это обусловливает привлекательность исследования, а с другой — подразумевает некую его сложность.
В данной работе мы решили рассмотреть семантическую категорию обвинения, используя полевой подход к изучению этого лингвистического явления в теории семантического синтаксиса. Категория обвинения исследуется нами также с учетом языковых средств её выражения в языке. Помимо этого, при исследовании категории «обвинение» мы учитываем обстоятельства поведенческой ситуации «обвинение», а именно статусно-ролевые взаимоотношения между участниками коммуникации и тональность общения, которая соответствует той или иной ситуации.
Выбранный нами подход изучения опирается на традиции, восходящие в отечественном языкознании к А.А. Потебне [Потебня, 1958, с. 47] (книга «Из заметок по русской грамматике» впервые была опубликована в 1874 г.). Детальное осмысление разнообразных аспектов семантики, соотношения ее универсальных и идиоэтничес-ких элементов, выявляемых теорией контенсивной типологии, представлено в работах С.Д. Кацнельсона [Кацнельсон, 1985]. А.В. Бондарко подробно осветил развитие идей, относящихся к стратификации содержательной стороны языка и речи, изложенных в трудах отечественных лингвистов XIX и XX вв. [Бондарко, 1978, с. 7-55]. Он разработал понятие «языковой семантической интерпретации понятийных категорий» [Там же, с. 82-88].
Полевой подход к изучению структуры языковой системы на данном этапе максимальным образом отображает соответствие развития лингвистической теории и мето- дологии задачам освещения объекта нашего изучения. Идея полевых связей между языковыми явлениями, оригинально разработанная применительно к лексическому материалу в трудах немецких ученых, таких как В. Порциг, Г. Ипсен, Й. Трир, была развита и обращена в общий принцип строения языковой системы, а позднее получила распространение на изучение грамматических явлений в работах В.Г. Адмони преимущественно в направлении «от формы к значению» (от однотипной формы к некому полевому «разбросу» ее значений) [Адмони, 1988]. Затем полевой подход получил развитие в трудах А.В. Бондарко и его школы с большим акцентом на сдвиге анализа и описания от семантических категорий к разнообразию языковых средств и способов воплощения, грамматических и лексических в их взаимодействиях, поскольку «для функционально-грамматического исследования принципиальную значимость имеет соотнесение средств и функций» [Бондарко, 1983, с. 40].
В лингвистике при изучении сложных семантических категорий, к которым, в частности, относится категория обвинения, обладающая сложной структурой и рассматриваемая как функционально-семантическое поле, давно используется полевой подход.
В научной лингвистической литературе существуют разные определения понятия «поле». Лингвистический энциклопедический словарь предлагает нам такую формулировку: «Поле — это совокупность языковых (главным образом лексических) единиц, объединённых общностью содержания (иногда также общностью формальных показателей) и отражающих понятийное, предметное или функциональное сходство обозначаемых явлений» [Ярцева, 1990, с. 380]. Давайте обратимся к характеристике функционально-семантического поля, которую А.В. Бондарко определил следующим образом: «Функционально-семантическое поле создаётся в результате взаимодействия разнопородных (относящихся к разным сторонам и уровням языка) элементов, обладающих, при всех различиях, общими инвариантными семантическими признаками. Основные черты структуры функционально-семантического поля сводятся к следующему: 1) обычно в поле выделяется ядро, центр, по отношению к которому другие компоненты поля представляют периферию; 2) для поля характерно частичное перекрещивание его элементов; разные поля также отчасти накладываются друг на друга; при этом образуются общие сегменты, цепочки постепенных переходов; 3) в рамках поля представлены семантические связи как однородных, так и разнородных языковых средств; взаимодействие грамматических и лексических компонентов поля осуществляется благодаря их способности объединяться в одном семантическом комплексе» [Бондарко, 1984, с. 17].
Итак, семантическое поле имеет неоднородную и комплексную структуру, которую можно представить в виде пересечения горизонтальной и вертикальной осей. Что касается горизонтальной оси, на ней располагаются семантические участки, которые дальше мы будем понимать как микрополя. Например, поле «обвинение» имеет в составе пять микрополей: микрополя «утверждение», «предположение», «предостережение», «угроза», «оправдание». По вертикальной оси располагаются некие элементы микрополей — так называемые конституенты. Вид и структура вертикальной оси поля зависят от природы и количества этих самых конституентов, а также расположения и позиций относительно друг друга. Чаще всего в полях выделяется еще один элемент — доминанта, т. е. все тот же конституент поля, являющийся наиболее соответствующим и подходящим для выражения данного определенного значения. Могут существовать поля с доминантой в составе каждого микрополя, а также микрополя без доминанты. Вокруг доминанты концентрируются максимально тесно связанные с ней конституенты, формирующие ядро поля. Конституенты, находящиеся от ядра вдалеке, располагаются на периферии поля [Бондарко, 2001, с. 50-66].
Таким образом, при исследовании поля «обвинение» и пяти входящих в его состав микрополей нами были изучены взаимосвязи этих микрополей с речеповеденческими тактиками. На периферии микрополей «угроза» и «предостережение» мы обнаружили тактику указания говорящего на незаконную деятельность третьего лица, основанного на уже имеющейся информации о нём. Что касается периферии микрополя «оправ- 246
дание», то к ней можно отнести тактику ответного обвинения еще каких-то лиц и критики в их адрес. Эта тактика может быть сформулирована таким образом: конкретное обращение говорящего к адресату со ссылкой на его действия, послужившее причиной неприятных и неожиданных последствий для последнего. Если говорить о периферии микрополей «утверждение» и «предположение», то здесь, скорее всего, будет находиться следующая тактика: указание говорящего на действия адресата, ставшего причиной неприятных последствий для третьего лица.
Разнообразные конституенты могут встречаться в нескольких полях в роли доминанты для одного микрополя и периферийного средства для другого в связи со своей многозначностью. Это и объясняет то, что доминанта, использованная в виде такой речеповеденческой тактики, как указание говорящего на некую преступную деятельность третьего лица, основанного на уже имеющейся информации о нём, также является одним из конституентов микрополя «утверждение» и в то же время располагается на периферии микрополей «угроза» и «предостережение». Таким образом, мы пришли к выводу, что различные признаки, которые являются семантической доминантой определенного поля, отдаляясь от его ядерной зоны, превращаются в расплывчатые, теряют чёткие очертания. Формируются основания для взаимосвязи различных микрополей внутри одного и того же поля, а также разных полей между собой. Вот почему в области периферии возможно пересечение разных полей.
Выбранная нами для изучения семантическая категория обвинения может быть представлена в виде набора составляющих, формирующих семантику исследуемой категории. Также категория обвинения может быть рассмотрена в качестве поведенческой ситуации, поскольку каждая поведенческая ситуация представляет собой некую смысловую структуру, которая включает в себя определённый набор семантических составляющих.
Упомянутое выше понятие «поведенческая ситуация» подразумевает наличие семантического аспекта, а также прагматических характеристик, к которым относятся обстановка, статусно-ролевые параметры коммуникантов, их общение, совокупность реплик говорящего и обратная реакция адресата. В процессе взаимодействия данных характеристик друг с другом образуются другие тактики, представляющие любую поведенческую ситуацию. Так, каждая из тактик, определяющих поведенческую ситуацию, является её семантической составляющей.
Теория ролей включает в себя социальные и психологические характеристики межличностного общения, она исследует связи между внешними факторами социального взаимодействия коммуникантов и их вербальным поведением. Именно поэтому данной теории отводится ключевое, центральное место во всей теории речевой коммуникации. При взаимодействии лиц, которые являются участниками речевой коммуникации как социально организованные личности, в силу вступают социальные правила (этические нормы), регулирующие это взаимодействие. Социальное регулирование распространяется как на вербальные, так и на невербальные действия.
Когда личность планирует и осуществляет речевую деятельность, он / она вынуждена учитывать не только физические свойства другого участника речевой деятельности, но также его / ее социальные и ролевые характеристики. Важно отметить то, что социальное взаимодействие здесь имеет ролевой характер. Это проявляется уже на стадии восприятия коммуникантами друг друга. Совершенно новаторским путем А.А. Бодалев продемонстрировал, что «другой человек воспринимается не только в своих исходных физических качествах (такой-то рост, пол, возраст, фигура, лицо, глаза и пр.), но и как личность, занимающая определенное положение в обществе и играющая ту или иную роль в жизни как воспринимающего, так и общества» [Бодалев, 1970, с. 38].
Очень часто взаимодействие коммуникантов подвергается некому социальному контролю, который не зависит от самих участников коммуникации. Иными словами, общество, воспринимаемое как система, включает в себя позиции, взаимосвязанные друг с другом, наделяющие людей определёнными правами и обязанностями исполнять роль и совмещенную с ней деятельность по общественно одобренным стандартам [Тарасов, 1975, с. 269-273]. Каждая личность, которая играет какую-либо социальную роль и имеет определенный социальный статус, подстраивает своё поведение под обладателей других ролей, ожидающих от неё деятельности, допускаемой ролевыми предписаниями и правилами. При этом такой контроль ролевой деятельности проявляется в неких ролевых ожиданиях. Таким образом, можно утверждать, что ролевые предписания и ролевые ожидания и есть нормы, стандарты, которые реализуются в речевой деятельности с различной степенью очевидности соблюдения ролевых предписаний. Можно сделать вывод о том, что при взаимодействии участники коммуникации воспринимают друг друга носителями конкретных социальных ролей.
Итак, при факте акта речевого общения, происходящего между носителями определенных социальных ролей, мы можем говорить о том, что образуется некая социальная ситуация [Тарасов, 1975, с. 272]. Как считает Е.Ф. Тарасов, «социальные ситуации можно подразделить на нормативные — ненормативные. В нормативных социальных ситуациях с самого начала речевого общения известны роли коммуникантов и, что самое важное, иерархия ролей» [Там же, с. 272]. В основном эти ситуации возникают в формально-официальных структурах общества, где зачастую природа той информации, которая подлежит передаче, установлена и известна заранее. Социальные ситуации с обратными характеристиками (например, размытостью передаваемой информации) являются ненормативными.
Что касается социальных ситуаций, необходимо отметить, что «статус и роль входят в набор личностных характеристик индивида и взаимодополняют друг друга. Основным критерием при определении статуса коммуниканта является его позиция в социальной системе, определяемая по ряду признаков (экономических, профессиональных, этнических, семейно-возрастных и других)... Статусные параметры реализуются через ролевые отношения в определённой обстановке общения, что обусловливает необходимость обращения к ситуативному контексту» [Тарасов, 1977, с. 125]. Общаясь, участники коммуникативного процесса ориентируются не только на определенную социальную роль, но в большей степени на её социальный статус, который также можно определить как социальный престиж этой самой роли. Помимо этого, важно отметить, что все статусные отношения являются постоянными, в отличие от ролевых отношений, которые всегда взаимосвязаны с ситуацией и варьируются вместе с ней.
Идентификация статуса роли позволяет коммуникантам определить позиции своих статусов в иерархии. На основании этой иерархии участники коммуникации производят выбор средств для формулирования своих высказываний. В таком случае один из основных выводов, который можно сделать: между социальным статусом коммуниканта и его речевым поведением существует связь, которая проявляется при языковом оформлении различных вербальных действий говорящего. В свою очередь, различия, которые присутствуют в статусно-ролевых отношениях участников коммуникации, выражаются в контенте поведенческих тактик.
Анализируя поведенческую ситуацию, мы обязаны принимать во внимание тональность общения. Ее выбор зависит от статусов участников коммуникации, а также социально-психологической дистанции между ними. То, какая тональность общения выбирается, оказывает непосредственное влияние на грамматическое оформление высказываний участников общения.
В разных ситуациях тональность общения понимается по-разному. В большинстве случаев, когда описывается ситуации общения, под тональностью подразумевают форму проявления этических норм поведения. Чаще всего тональность общения может быть определена рядом следующих признаков: статусно-ролевыми отношениями участников коммуникации и поведенческими нормами, определенными обществом.
Итак, теория полевого подхода и поля, выбранная нами как подход для изучения категории обвинения, является достаточно эффективным инструментом и универсаль- ной методологией в лингвистической науке, которая используется для описания разнообразных лексических и грамматических феноменов. Опираясь на выводы и положения, изложенные в известных трудах лингвистов-ученых Т.В. Шмелевой [Шмелева, 1997], Т.В. Тарасенко [Тарасенко, 1999], мы считаем, что категорию обвинения вполне возможно рассматривать как функционально-семантическое поле, которое обладает следующими характеристиками: 1) и ядерная, и периферийная зоны присутствуют в семантическом поле «обвинение»; 2) ядерная зона зачастую представлена доминирующими признаками в виде речеповеденческих тактик, которые могут передать все оттенки значения, максимально соответствующие определенному микрополю, которое является одним из составляющих поля «обвинение»; 3) периферийная зона, в свою очередь, представлена теми тактиками, которые передают значение определенного микрополя более расплывчато и обладают многими значениями.
Семантические характеристики выбранной нами категории обвинения формируются набором семантических долей, это означает, что данная категория может быть рассмотрена как поведенческая ситуация. Это добавляет к её характеристикам следующие прагматические параметры: статусно-ролевые отношения участников коммуникации, среду коммуникации, совокупность высказываний говорящего и обратную реакцию адресата, формирующие коммуникативно-прагматический контекст определенной поведенческой ситуации.
Таким образом, прагматический аспект изучения категории обвинения определяется нами как набор разнообразных социальных ситуаций, которые формируют поведенческую ситуацию «обвинение», а также имеют основными характеристиками статусно-ролевые отношения коммуникантов, социальную, психологическую дистанцию между ними и тональность, выбранную ими для общения друг с другом.