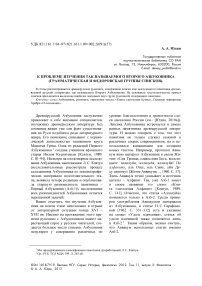К проблеме изучения так называемого второго Азбуковника (грамматическая и федоровская группы списков)
Автор: Юдин Алексей Александрович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 2 т.11, 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются древнерусские рукописи, содержащие списки еще неизученного памятника средневековой русской литературы, так называемого Второго Азбуковника. На основании текстологических примет списков предлагается выделение наиболее значимых двух групп рукописей, содержащих памятник.
Азбуковник, рукописи, окружение текста, "книга глаголемая буквы", сказание черноризца храбра "о письменах"
Короткий адрес: https://sciup.org/14737731
IDR: 14737731 | УДК: 821.161.1'04-97+821.161.1.09+002.2(091)(57)
Текст научной статьи К проблеме изучения так называемого второго Азбуковника (грамматическая и федоровская группы списков)
Древнерусский Азбуковник заслуженно привлекает к себе внимание специалистов, изучающих древнерусскую литературу. Без сомнения важен уже сам факт существования на Руси подобного рода литературного жанра. Его появление связывают с переводческой деятельностью книжников круга Максима Грека. Одна из редакций Первого Азбуковника 1 создана учеником афонского старца Нилом Курлятевым [Ковтун, 1989. С. 81–94]. Несмотря на плодотворное исследование Азбуковника, выполненное Л. С. Ковтун (исследовательница рассмотрела процесс складывания Азбуковника из лексикографических материалов подготовительного этапа, выявила четыре редакции и опубликовала старшую разновидность памятника – Первый Азбуковник (Азб-1)), исследование всех разновидностей Азбуковника остается нерешенной задачей.
Важно отметить, что изучение Азбуковника на новом этапе невозможно в отрыве от литературной ситуации конца XVI – XVII вв. Именно на протяжении этого времени рукописи с Азбуковником имеют нарастающий спрос у русских читателей, создается большое число списков. Азбуковник популярен у совершенно различных по уровню благосостояния и грамотности слоев населения России (см.: [Юдин, 2010а]). Лексика Азбуковника встречается в самых разных памятниках древнерусской литературы. И можно говорить о том, что этот памятник не только служил основой в различных спорах современников, но и использовался книжниками для создания новых текстов. Например, протопоп Аввакум явно цитирует Азбуковник в своем Житии: «Сия Троица, славословя Бога, восклицают: аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! По алфавиту, аль Отцу, иль Сыну, уйя Духу святому» [Житие Аввакума…, 1960. С. 57]. Здесь Аввакум точно указывает и источник цитаты – Алфавит. Так, уже Азб-1 имеет в своем названии это слово: «Книга глаголемая Алфавит» [Ковтун, 1989. С. 141]. Отметим, что статья «Аллилуйя» появляется только в Азб-2. Среди примеров употребления Аввакумом материалов из Азбуковника, в статье Н. С. Сарафано-вой [1962. С. 331–332] есть и указание на сюжет «Удоль плачевная», статья об удоли плачевной также появляется лишь в Азб-2 2. Таким образом, можно считать, что Аввакум использовал статьи именно Азб-2.
При изучении Степенной книги современный исследователь обращает внимание на близость одной из статей 3 этого произведения с Азбуковником [Усачев, 2005]. А. С. Усачев при текстологическом сравнении пользовался опубликованным Л. С. Ковтун текстом Азб-1 [Ковтун, 1989. С. 136–281]. Не найдя соответствий некоторым толкуемым в Степенной книге словам, исследователь приходит к выводу, что «целый ряд содержащихся в ней (Степенной книге. – А. Ю .) толкований не может быть возведен к Азбуковнику (их можно отнести как на счет эрудиции создателя Степенной книги, так и возможности использования неизвестных списков Азбуковника или его источников)» [Усачев, 2005. С. 255]. Здесь можно отметить, что, скорее всего, в своей работе создатели Степенной книги пользовались Азб-2, так как в рукописях именно этой разновидности Азбуковника встречаются ненайденные А. С. Усачевым при работе с текстом Азб-1 толковые статьи: «Халтуларь – ясельничей» (МДА 199. Л. 274 об.), «[И]ге-монъ», именно в значении «князь» (МДА 199. Л. 98 об.), а не «меньший воевода», как в Азб-1.
На привлечение материалов из Азбуковника в творческой работе русских писателей XVII в. обращает внимание немецкий исследователь [Keipert, 1988]. Исследуются статьи ономастикона в составе Азбуковника, используемые в памятниках русской литературы XVII в.
Тем важнее изучать литературную историю Азбуковника комплексно, не замыкаясь в рамках языковедческих исследований отдельных статей памятника. На первоначальном этапе такого изучения необходимо как выявление новых списков еще неизученных разновидностей Азбуковника, так и текстологическое изучение этих списков, коллация этих списков на предмет взаимодействия друг с другом с целью выявления различных редакций внутри определенных разновидностей. В задачу данной статьи не входит полное решение всех этих вопросов. Уже одно количество дошедших до нас списков так называемого Второго Азбуковника (Азб-2) предполагает достаточно объемное исследование. Остановимся на некоторых моментах в текстологическом исследовании
Второй, еще неизученной разновидности памятника.
При текстологическом изучении списков Азбуковника Л. С. Ковтун предлагает обращать внимание на окружение словарного свода с азбучным расположением статей, заглавие сборника, если он тематический, и на заголовок словарного свода, тип предисловия, предваряющего словарный свод, предисловие к словарю имен собственных в Азбуковнике, лексикографические и литературные источники словаря, на состав и порядок словарных статей, характер толкования слов [Ковтун, 1977. С. 96].
В отдельную группу входят списки произведения, имеющие четкую структуру словника, с обязательным разбиением внутри буквенных разделов на тематические комплексы: священные слова, книги, нуме-ры, сиречь чины, южичество (родство), составы (части тела), имена градом, имена монастырем, имена месяцем, имена человеческие и т. п. В рукописях этой группы Азбуковник окружен целым рядом грамматических сочинений, представлявших необходимый и несомненный интерес в работе древнерусского книжника. Начинается такое окружение словника, как правило, текстом с заглавием, выведенным вязью: «Книга глаголемая Буквы, иже в начале от Грамматикия о просодиях. О еже како во святых книгах каяждо пословица писати и глаголати». Статьи «Книги глаголемой Буквы» опубликованы И. В. Ягичем [1895. С. 730–748]. Приведенный исследователем порядок нахождения в рукописях этих статей, за исключением некоторых вставок, соответствует расположению их в рукописях с Азбуковником. При публикации И. В. Ягич использует рукописи с текстами «Книги», в которых если встречается текст Азбуковника, то он представлен только Второй разновидностью памятника 4. В основание издания «Книги» легла рукопись РГБ, собр. Н. П. Румянцева, № 1 5. Привлечены также рукописи: РНБ, Q.XVI.4 (текст «Книги глаголемой Буквы» представлен с сокращениями), РНБ, Q.XVI.6, РНБ, Q.XVI.20, РНБ, Q.XVI.21, РГБ, собр. В. М. Ундольско-го, № 976, РГБ, собр. В. М. Ундольского,
№ 972 6, РНБ, собр. М. П. Погодина, № 1660, ГИМ, Синодальное собр., № 380. С нашей точки зрения, нахождение «Книги глаголемой Буквы» в рукописях с текстом Второго Азбуковника является важной текстологической приметой подобного рода списков словаря. При этом взаимосвязь «Книги глаголемой Буквы», включающей тексты о грамматических категориях языка и о надстрочных знаках с примерами употребления, с Азбуковником подчеркивает нахождение следующего текста в «Буквах»: «Книга глаголемая Алфавит. Начало имуще сказания вкратце. Еже что ради наричется словенская грамота. И еже от коего колена Русь и в колика имена разделишася словя-не». Как отмечает И. В. Ягич, эта статья, «составленная по образцу Повести Временных лет» и озаглавленная «Книга глаголемая Алфавит», «считалась введением в алфавиты и принадлежит конечно туда» (т. е. имеет отношение к Азбуковнику, а не к «Книге глаголемой Буквы». – А. Ю.) [Ягич, 1895. С. 743, 744]. Однако о том, что текст о славянской азбуке входит непосредственно в «Книгу глаголемую Буквы», свидетельствует тот факт, что после него и сразу за ним идущего текста о просодиях следует: «Ко-нецъ просодиомъ… Конецъ етимологии и самемъ Буквамъ». Вместе с тем уже в заголовке статьи об азбуке объясняется предваряющий, вступительный перед словарем характер этой и следующей за ней статьи, – «Книга глаголемая Алфавит. Начало имуще сказания вкратце». Эти краткие вступительные статьи довольно органично смотрятся в роли предваряющих текст Азбуковника: произведение о славянской азбуке, текст о надстрочных знаках (просодиях) и правила их употребления на письме, сочинение о частях речи в вопросах и ответах 7, и «О восьми частях слова», приписывавшееся Иоанну Дамаскину, «вкратце избранное» в вопросо-ответной форме 8. Таким образом, «Книга глаголемая Буквы» неразрывно связана в рукописях с текстом Азбуковника. Кроме того, само название книги воспринимается книжниками не только как указание на тексты, предваряющие древнерусский Азбуковник, но и может выступать в качестве названия самого словаря: «Предисловие неудобь познаваемыхъ речей, Бук-вамъ» 9.
Уже первое толкуемое слово в словнике древнерусского словаря (Алфавит – Азбуковник, или Аз веде) связано с его названием. Термин «Алфавит» часто выступает синонимом Азбуковника у писцов и в научной литературе [Ковтун, 1989. С. 73]. Между тем можно предположить, что само слово «азбуковник» является калькой с греческого, и при отсутствии в кириллической азбуке одного соответствия второй букве греческого алфавита, в толковательной части первой статьи словаря приведены оба варианта калькирования греческого слова. Поэтому правомернее, с нашей точки зрения, называть рукописи, относящиеся к этой так называемой Грамматической группе, Алфавитами. Книжники и владельцы рукописей называют их Алфавитами 10, термин «Азбуковник» перенесен как раз из первой статьи словаря и носит синонимическую и разъяснительную функции 11. Название «Лексис» применительно к Азбуковнику в большинстве рукописей Азб-2 появляется в заголовке Предисловия к нему: «Предисловие Лек-сису, толк неудобь разумеваемымъ речемъ». Как известно, словарные материалы из «Лексиса» Лаврентия Зизания, изданного в 1596 г. в Вильне, активно использовались составителями Азб-2 [Ковтун, 1989. С. 124], в некоторых рукописях Азбуковник соседствует со списками зизаниевского словаря 12. По аналогии с западно-русским словарем, Лексисом стали называть и Азбуковник. Хотя слово не прижилось в названии, оставшись лишь вариантом наименования древнерусского словаря в Предисловии к нему. Нам известен лишь один список, где слово «Лексис» употреблено в заглавии самого словаря: «Книга глаголемая Лексисъ, сиречь недоведомыя речи. Преводъ Макси- ма Грека от иноверных на русский язык» 13. В некоторых поздних рукописях слово «Лексис» заменяется в заголовке Предисловия на «Алфавит». Наибольшее количество списков Азб-2 называются «Книгой глаголемой Алфавит», термин «Азбуковник» имеется в первой статье словника, термин «Лексис» применительно к названию словаря используется только в заголовке Предисловия к нему (начало Предисловия: «Иже от юности во благочестии воспитанному…»).
Рукописи Грамматической группы Азб-2 носят элитарный либо корпоративный характер. К ним относятся два списка Второго Азбуковника из собрания Московской Духовной Академии, № 199 и 93, причем оба списка имеют сходный состав окружения словника и одинаковую структуру статей внутри буквенных разделов. Провести ко-дикологический и палеографический анализ этих рукописей пока не удалось 14, однако предварительно можно указать на влияние одного из них на другой. К этой же группе относится Азбуковник из собрания Научной библиотеки ТГУ Витр-758. Рукописи ТСЛ 199 и Витр-758 принадлежали, судя по записям, известным церковным деятелям 15. Рукопись с Азбуковником РНБ, Погод. 1145 принадлежала князьям Ромодановским, ей владели сначала Василий Григорьевич, затем Стефан Васильевич. Записи об этом приводятся на л. 226 об. [Юдин, 2010а. С. 77]. Эту рукопись мы также относим к Грамматической группе, так как состав окружения Азбуковника и порядок следования статей словника те же, что и у вышеназванных рукописей. Как уже было сказано, данная группа списков характеризуется особым грамматическим составом окружения словника, произведения, не связанные с языковедческими вопросами, отсутствуют в конвое Азбуковника в этих рукописях. Наиболее репрезентативным списком группы мы считаем рукопись РГБ МДА 199 на основании устойчивого состава окружения сборника, однако это не значит, что она является наиболее древним вариантом в этой группе, о древнейшем варианте можно бу- дет говорить только с учетом выполнения палеографического и кодикологического анализа всех известных списков, относящихся к варианту Азб-2. Азбуковник Погод. 1145 сходен с МДА 199 по окружению и порядку следования статей, отличия состоят в индивидуальных описках переписчика текста и не влияют на отдельное рассмотрение рукописи в качестве извода 16. Такой же состав окружения словаря и порядок следования статей в словнике можно наблюдать и в рукописях: ИРЛИ. Собр. В . Н. Перетца, № 105 17; БАН, Арх. 841 18 и т. д.
Как известно, в своей характеристике сибирских списков Азбуковника Л. С. Ковтун предположила, что рукопись Второго Азбуковника из собрания М. Н. Тихомирова № 99 имеет в своем составе в заключительной ее части «добавочные словарные разработки к Азбуковнику», или «текст более краткого Азбуковника» [Ковтун, 1990. С. 146], помимо основного текста памятника. На наш взгляд, здесь мы имели место с выбранными из этого же Азбуковника по принципу объемности статьями, помещенными книжником в заключительной части рукописи, для удобства расположения материала [Юдин, 2010б. С. 144]. Однако в ходе изучения рукописи РНБ. Собр. М. П. Погодина, № 1081, мы столкнулись с той же самой выборкой, совпадающей и по количеству и характеру статей, выбранных писцом Тих. 99, но представленных в Погодинской рукописи в конце буквенных разделов. Эта завершающая выборка статей в конце буквенных разделов словника отмечена чернилами писцом Погод. 1081. При первом рассмотрении рукописи из петербургского собрания складывалось впечатление, что книжник дополнял разделы статьями, выпущенными при переписке. Тем не менее сам объем и тематика статей (статьи мифологической тематики, вопросо-ответные статьи и т. п.) заставляют говорить, что такое разделение материала сделано писцом намеренно, подчинено определенной цели. Как уже отмечалось, внутри буквенных разделов во Втором Азбуковнике различные статьи могут входить в определенные тематические комплексы (Имена градом, Имена монастырем, Звери, Имена месяцем, Имена людем и т. д.), эти комплексы могут быть маркированы заголовком либо отмечены на полях особыми знаками (например, при извлечении статей из «Речи тонкословия греческого» на поле по всей границе текста идет слово «греческий»). Возможно, книжник намеренно выделяет из текста Азбуковника тематически сходные статьи словаря из разных мест словника для создания общей группы статей. Несмотря на приблизительное толкование цели подобной выборки, ясно, что эти два списка Азбуковника взаимосвязаны друг с другом. Анализ водяных знаков бумаги рукописей показал, что РНБ, Погод. 108119 старше Тих. 99, однако трудно говорить о подчинительной роли Тихоми-ровской рукописи, можно отнести пока их в одну группу списков Второго Азбуковника. Тем не менее на такую роль наталкивает наблюдение над расположением «Предисловия толкованию имен человеческих» и приписки о неправильном его расположении в тексте Азбуковника. Обычно Предисловие предваряет текст ономастикона. В этих же двух рукописях оно находится сразу же за разделом на первую букву алфавита словарика имен собственных. Об этой ошибке и говорится в приписке на полях рукописи. При этом последняя фраза в Тих. 99 «…по грехом описанос(!)» (Л. 30 об.) может быть объяснена неправильным прочтением ее в рукописи Погод. 1081, так как часть текста приписки обрезана при изготовлении переплета рукописи («…описанω ω[…]» – Л. 16). Здесь оставшуюся от следующего слова литеру Омега в скорописном почерке как раз можно принять за выносную С.
Следует отметить, что РНБ, Погод. 1081 и Тих. 99 имеют сходное окружение словаря. Это окружение представлено Сказанием черноризца Храбра «О письменах», Предисловием Иоанна экзарха Болгарского к Богословию Иоанна Дамаскина и Предисловием к Азбуковнику, озаглавленном в рукописях Грамматической группы «Предисловие Лексису, толк неудобь разумеваемымъ речемъ». Здесь это же предисловие имеет другое название: «Ино сказание книзе сей, нарицаемой Алфавит, сиречь Азбуковник». Такое устойчивое окружение в рукописях с Азб-2, сокращенное, по сравнению с Грамматической группой списков, количество отсылок к лексикографическим источникам статей, отличные от все той же Грамматической группы толкования к отдельным статьям – все эти признаки представлены в целом ряде списков Азб-2. Целесообразно также выделить их в отдельную группу. В ходе текстологического изучения Сказания черноризца Храбра «О письменах», А. Ю. Степанова выделяет так называемую Федоровскую редакцию памятника. Характерно, что в окружении Азб-2 этой группы списков представлена именно Федоровская редакция Сказания [Степанова, 1999. С. 31– 85] 20. На основании наиболее характерного признака можно назвать группу списков Азб-2, представленную этими рукописями, Федоровской. Кроме всего прочего, в статье «Библия» в этой группе появляется указание на год издания Острожской Библии Иваном Федоровым.
Другая группа списков представлена рукописью ГПНТБ СО РАН. Собр. М. Н. Тихомирова, № 71, где объем буквенных разделов существенно сокращен, имеется отличное от других списков Предисловие к Азбуковнику, и, самое интересное, деталь, отмеченная и в других рукописях, характеризующаяся в приписке к толковой части статьи об орле, – «А в Малой России орла пишут…». В РНБ, Погод. 1644 21, также имеющей такое толкование, состав окружения словника значительно сокращен, в рукописи нет «грамматических» статей, есть лишь небольшое «Предисловие неудобь по-знаваемыхъ речей, Буквамъ» (Л. 1). Последнее слово в заголовке Предисловия явно со- относит данную группу рукописей с Грамматической, причем эта группа, по нашему мнению, послужила первоосновой для создания такого варианта Азб-2. Об этом свидетельствует как несравнимо меньшее количество статей словника последней группы, так и следы редакторской правки Предисловия Азбуковника и отдельных статей словаря. К такому варианту Грамматической группы можно отнести списки РНБ, Погод. 1644, Тих. 71, РНБ, Q.XVI.28 и др.
При изучении порядка статей в рукописях Грамматической и Федоровской групп выявляется их идентичная последовательность, пропуски статей в Федоровской группе можно объяснить ошибками писца при переписке рукописи. Так простое перечисление порядка следования некоторых статей в Тих. 99 в сравнении с МДА 199 может хорошо проиллюстрировать этот факт (Тих. 99: «…Ариилъ; Анафора; Ана-форанъ; Акафисто, неседалныи, пишетъ бо в Житии Саввы Освященнаго, яко созда храмъ Акафисматосъ; Акростихида; Ана-ротъ; Аггелъ…» 22; МДА 199: «…Арииль; Анафора; Афира; Анафоранъ; Акафисто, неседално; Акафисмотосъ, неседалны, пи-шетъ бос я в Житии Саввы Освященнаго, яко созда храмъ Акафисмотос; Акрости-хисъ; Арапски Ама…; Анаротъ; Анфропосъ; Анфропи; Аггелъ…» 23). Изъятие нескольких статей из словника, вероятно, происходит из-за невнимательности писца, однако, возможно, такой порядок уже присутствовал в рукописи, послужившей писцу оригиналом. Привлекает внимание и сокращение лексического гнезда в словнике (приведен лишь один из примеров). То, что происходит именно сокращение статей, а не сознательное расширение словника в текстах, представленных МДА 199, может подтвердить обращение к статьям с более обширной толковой частью. Так, в статье «Димитра скитается» в Тих. 99 обращает на себя внимание следующий отрывок с именами собственными: «Димитра же по всей земли скиташеся, ищущи ея, и срете Келеакаки и Трипода» 24. Если бы за основу для предполагаемого расширения статей в МДА 199 брались тексты группы рукописей, представленных Тих. 99, возможно, редкие име- на из греческой мифологии сохранили свое невообразимое написание и в рукописи Духовной Академии. Однако в последней Ке-лей и Триптолем легко узнаваемы на письме, кроме того, дается точная отсылка к тексту, из которого взято толкование: 10 Слово Григория Богослова, Толкование 6, стих 6. Однако стоит упомянуть, что в древнейшем славянском тексте XIII Слов Григория Богослова содержится следующее чтение: «и Димитиръ скытаетъся и Келея какы прибираетъ и Трипътоломи» [Будилович, 1875. С. 2–3]. Следовательно, Тих. 99 может нести в себе черты древнейшего цитируемого текста Слова Григория. Однако не стоит исключать и то, что на каком-то этапе существования этой группы списков книжник мог сверить цитату из Григория по рукописи, содержащей его произведения. Особенностью Федоровской группы списков является значительно меньшее количество отсылок на полях рукописи к источникам толкуемых слов, иногда отсылки разнятся с теми, что представлены в Грамматических списках, зачастую же можно дополнить сведения об источнике статьи из такого рода расхождений. Укажем также, что Витр-758, относимая нами по окружению Азбуковника к Грамматической группе, в указанной выше статье имеет то же чтение, что и в Тих. 99, а в Тих. 71 текст совпадает с МДА 199. Такие текстологические приметы лишний раз доказывают, что отнесение списков Азб-2 в группы лишь на основе окружения словаря в рукописях носят предварительный характер. Требуется тщательное изучение характера толкований слов и лексикографических источников Азбуковника.
Раздел с Азбуковником в рукописи БАН, Арх. 474 25 также начинается с «Книги глаголемой Буквы», за исключением некоторых статей, порядок следования произведений из окружения Азбуковника сохраняется тот же, что и в МДА 199. Однако тематический раздел с названиями месяцев в различных языках на букву А в этой рукописи идет после Предисловия к ономастикону 26. Такое расположение этого раздела можно объяснить ошибкой переписчика текста и добавлением выпущенных статей при сверке текста.
-
22 Тих. 99. Л. 14.
-
23 МДА 199. Л. 61.
-
24 Тих. 99. Л. 51 об.
Однако другая важная текстологическая примета – статья «Библия», в толковой части которой приводится год издания Острож-ской Библии Ивана Федорова 27, предполагает связь этой рукописи с Федоровской группой. Можно предположить, что рукопись БАН, Арх. 474 образует особый вариант списков, переходный от Грамматической к Федоровской.
К Особой, или Томской, группе мы относим пока одну рукопись, уникальную по своему составу, с необычной вставкой, перебивающей ряд словарных статей в разделе на букву «К» [Юдин, 2011. С. 92]. Можно предположить, что составление такого сборника было подчинено индивидуальным запросам его создателя. Вряд ли рукопись с подобным составом произведений, окружающих текст Азбуковника, а тем более со столь обширной вставкой внутри самого словника могла составить отдельную традицию. Поэтому предлагается говорить на данном этапе не о группе списков, а об отдельной, особой, редакции Второго Азбуковника, представленной одной рукописью.
Таким образом, на основании изучения предложенных характерных признаков рукописей, содержащих Азб-2, мы выделяем две группы списков древнерусского словаря этой разновидности: Грамматическую и Федоровскую. Эти группы рукописей Азбуковника имеют соответственно устойчивое окружение словаря, обязательное предисловие, определенный порядок статей в словнике и схожий характер толкования слов внутри группы. Характерным признаком Грамматической группы списков Азб-2 является предваряющее словарь произведение, тематически относимое древнерусскими книжниками к категории «грамматических», – «Книга глаголемая Буквы». Федоровская группа определяется наличием в окружении Азбуковника Сказания черноризца Храбра «О письменах» в так называемой Федоровской редакции, Предисловием Иоанна экзарха Болгарского к Богословию Иоанна Дамаскина и Предисловием Алфавиту под заглавием «Ино сказание». Отдельные рукописи, хоть и связанные определенным набором признаков общности, на данном этапе исследования можно относить к вариантам выявленных групп рукописей, имею- щих важные отличительные объединяющие их особенности не только по составу окружения, но и по характеристике словарного материала.
ON STUDYING OF SO-CALLED THE SECOND AZBUKOVNIK (GRAMMATICAL AND FYODOROV’S GROUPS OF VERSIONS)
The article considers Old Russian manuscripts which include versions of the unstudied monument of medieval Russian literature, so-called The Second Azbukovnik. The separation of the groups of manuscripts including the monument is proposed on the ground of textological distinctive marks.