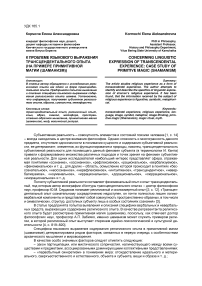К проблеме языкового выражения трансцендентального опыта (на примере примитивной магии (шаманизм))
Автор: Кормочи Е.А.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 1, 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье автор обращается к исследованию религиозного опыта как одной из форм трансцендентального опыта. Предпринята попытка выявления и описания специфики языкового выражения содержания религиозного опыта шамана. Установлено, что информация, получаемая субъектом религиозного опыта, образна, символична, метафорична.
Трансцендентальный опыт, религиозный опыт, язык, образ, символ, метафора, пространственно-образное мышление, примитивная магия (шаманизм), миф, магический ритуал
Короткий адрес: https://sciup.org/14940703
IDR: 14940703 | УДК: 165.1
Текст научной статьи К проблеме языкового выражения трансцендентального опыта (на примере примитивной магии (шаманизм))
Субъективная реальность – совокупность элементов и состояний психики человека [1, с. 14] – всегда находилась в центре внимания философов. Однако сложность и многогранность данного предмета, отсутствие однозначности в понимании сущности и содержания субъективной реальности, ее детерминант, элементов, их функционирования и природы, наконец, трансцендентальность субъективной реальности для познающего данный феномен субъекта (в терминологии И. Канта) привели к формированию множества различных подходов и точек зрения на феномен субъективной реальности. Для одних исследователей наибольший интерес представляет сфера, отражаемая понятиями «сознание», «осознанное», «рефлексивное», «рациональное», «вербализуемое», «феноменальное» и т. д., для других – область, осмысление которой происходит в понятиях «бессознательное», «неосознанное», «нерефлексивное», «интуитивное», «трансцендентное», «невер-бализуемое», «ноуменальное», «иррациональное», «дорациональное», «сюррациональное», «инорациональное» и т. д.
Полноту субъективной реальности составляет феноменальный опыт и опыт трансцендентальный, под которым автор монографии «Контуры трансцендентального опыта» – доктор философских наук, профессор Ю.М. Сердюков понимает религиозный и околосмертный опыт [2, с. 12]. «Трансцендентальный опыт сознательному сосредоточению недоступен, он почти полностью лишен логиковербальной компоненты и представляет собой совокупность пространственно-образных, в том числе и символических, структур, доступных субъекту лишь в особых состояниях сознания» [3].
В статье предпринята попытка выявления и описания специфики вербальных и невербальных средств, выражающих содержание религиозного опыта. В качестве репрезентанта религиозного опыта будет рассмотрена примитивная магия (шаманизм), поскольку, как отмечает доктор философских наук, профессор А.П. Забияко, именно шаманизм может служить примером религии, в которой религиозный опыт выступает стержнем идейно-психологической и культурной деятельности [4, с. 819–820].
Специфика языкового выражения содержания религиозного опыта в примитивной магии (шаманизме) детерминирована рядом факторов, связанных в первую очередь с особенностями архаического мышления и мировоззрения.
В качестве особо значимых факторов следует отметить следующие:
-
– закон партиципации, или мистического сопричастия, наличествующего между всеми существами и предметами, ассоциированными доминирующими коллективными представлениями;
-
– «первобытный синкретизм» в понимании мира: отождествление идеального и материального, сверхъестественного и естественного, объекта и субъекта, вещи и образа и т. д.;
-
– мифологическая апперцепция и, как следствие ее действия, представление о субстанциальной основе всего сущего – особой мистической силе, называемой мана, вакан, оренда и др.;
-
– оживление реальности;
-
– доминирующая, как считают многие исследователи, роль у архаического человека правого полушария, что привело, в свою очередь, к образности и метафоричности примитивного мышления;
-
– особая роль мифа, фиксирующего все знания древних о мире и о себе.
Изучение языковой специфики шаманизма следует начать с обращения к языковой специфике мифа, содержащего все значимые представления архаических людей об Универсуме и выполняющего ряд функций: космологическую (обеспечение понимания мироустройства и места человека в нем), религиозную (обеспечение понимания человеком лежащей на нем ответственности перед мирозданием), развивающую (помощь в обретении ориентиров духовного развития), социальную (обеспечение равновесия социальной структуры и взаимопонимания между членами социума) и пр.
Миф как языковая система демонстрирует своего рода амбивалентную структуру: присутствует диахроническая составляющая, с одной стороны, и синхроническая – с другой. Диахроническая структура имеет место быть, поскольку миф есть изложение причинно связанных между собой событий; синхроническая структура обнаруживается в том, что миф – это способ интерпретации настоящих и будущих событий, схема, обладающая эффективностью.
Как отмечает К. Леви-Стросс, миф «…своего рода логический инструмент для нахождения медиатора между жизнью и смертью» [5, с. 158]. Суть медиации заключается в замене пары фундаментальных, ярко выраженных противоположностей (к примеру, жизнь – смерть) парой менее выраженных (к примеру, животное – растение), затем парой еще менее выраженных (к примеру, плотоядное – травоядное). И, наконец, последняя противоположность снимается введением фигуры так называемого трикстера (к примеру, ворон или койот). Трикстер – антропозооморфное существо, питающееся падалью.
Основное средство экспликации содержания в мифе – символ (смыслообраз), поскольку именно он «живет антитезой логического и алогичного, рационального и иррационального, понятного и непонятного» [6, с. 93], сознательного и бессознательного. Символы мифа представлены двумя видами: доминантные и базовые. К базовым можно отнести анимототемные символы – отражают представления о соотнесенности смерти – бессмертия, рождения – смерти, родстве человека с определенным природным объектом; символы мировых стихий (солнце и луна символизируют день и ночь, воскрешение и умирание и др.); символы мирового древа. Доминантные символы – повторяющийся во многих мифах набор фундаментальных тем, проявляющихся в различных ритуалах.
Структура символа многослойна и включает ряд смыслов: базовый – полностью неосознанный, частично осознаваемый и явный. Среди функций символа выделяются следующие: наречение имени, трансляция знаний и моральных принципов, функция классификатора, функция запоминающего устройства.
Оперирующее символами архаическое сознание основано на коллективной памяти, функция которой – сохранить и передать знания об устройстве мира. Следовательно, совокупность символов несет важную информацию о главных ценностях рода, племени.
К примеру, для изображения Вселенной в мифе нередко используется символ «мирового древа». Крона символизирует Верхний мир (небо), ствол – Средний мир (землю), корни – Нижний мир (подземный мир). В такой системе взаимосвязей задана символическая ориентация верха и низа миропорядка в категориях добра и зла, света и тьмы, мужского и женского и т. д. с их пересечением в центре – земле. Символическое понимание существования Вселенной таково: она находится в состоянии стабильности до тех пор, пока в Среднем мире свет и тьма уравновешены. Если же в Среднем мире тьма начинает преобладать, то он начинает притягиваться к Нижнему миру, и они в конечном итоге сливаются в один темный мир. Напротив, если равновесие в Среднем мире изменяется в пользу мира Верхнего, то произойдет слияние в один светлый мир. Следовательно, именно от мира людей зависит возрождение или угасание в развитии Вселенной [7, с. 15–16].
Субъектом религиозного опыта в примитивной магии (шаманизм) является шаман – особый человек, посредник между миром людей и духами Нижнего и Верхнего мира, способный для этой цели входить в измененное состояние сознания (ИСС). Шаманская практика вхождения в ИСС характеризуется рядом специфических черт:
-
– способностью шамана произвольно входить в ИСС и выходить из него;
-
– способностью осуществлять контроль содержания получаемых переживаний;
-
– функционированием нескольких каналов восприятия: зрения, слуха, телесных ощущений, которое способствует возникновению организованных связных образов, дающих шаману необходимую в каждом конкретном случае информацию.
Формой экспликации особого шаманского переживания – просветления, или прозрения – является образ особого света. К. Расмуссен описывает это так: «…это тот таинственный свет, который шаман внезапно ощущает в своем теле, голове и мозгу; это ослепительный источник света, сияющий огонь, позволяющий шаману – как буквально, так и метафорически – видеть в темноте, поскольку теперь он может даже с закрытыми глазами воспринимать вещи и будущие события, скрытые от других» [8, с. 63].
Еще одним примером получения шаманом информации в форме образа, выполняющего одновременно и функцию символа, является переживание смерти и возрождения, означающее завершение поиска. Переживание смерти, а затем возрождения интерпретируется шаманом буквально: он видит, как его тело разделяется, разрывается духами на части, а затем заново собирается. С. и К. Гроф, согласно которым такого рода переживания являются формой духовного кризиса, описывают их следующим образом: «…видения представляют собой спуск в преисподнюю с помощью родовых духов, нападение демонов, невообразимые эмоциональные и физические пытки и в конце концов – полное уничтожение. Затем следует возрождение и восхождение в божественные сферы» [9, с. 162].
-
Л . Леви-Брюль пишет о шаманском переживании смерти и возрождения следующее: «Его смерть и воскрешение – это символ, который означает, что человек прошел путь полного преображения» [10, с. 355] и теперь готов к выполнению возложенных на него племенем функций.
Особое место в примитивной магии отведено ритуалу, с исполнением которого связывались все значимые события в жизни племени. Кроме символов мифа, обычно вербальных, в ритуале применяются и невербальные символы (презентативные). Так, бубен шамана одновременно является и инструментом введения шамана в измененное состояние сознания, и моделью Вселенной, поскольку на нем схематически изображаются миры: Верхний, Нижний, Средний, и средством вхождения шамана в контакт с духами, и путеводной картой, поскольку на бубне могли изображаться шаманские маршруты и ориентиры, и средством перемещения шамана по Верхнему, Среднему и Нижнему миру.
Весомую роль в магическом ритуале и религиозном опыте играет презентативная символика, особенно значимы визуальные образы, выполняющие нередко также функцию символов. Например, для путешествия в Нижний мир шаман визуализирует вход в землю посредством образа пустого пня или источника воды, или входа в пещеру [11, с. 144]. Еще пример – для эскимосского шамана образ грязи и нечистот на теле богини Таканакапсалюк станет символом злодеяний, совершенных членами его племени, а образ высокой стены у ее дома будет символизировать ее гнев [12].
С образностью первобытного, или архаического, мышления тесно связана его метафоричность и, как результат, – метафоричность языка примитивной магии. Это можно объяснить следующим образом: когнитивная эволюция homo sapiens может быть представлена как многоэтапный, постепенный переход от образного, по преимуществу правополушарного мышления к мышлению логико-вербальному, или знаково-символическому, левополушарному [13, с. 83]. В этом контексте мышление архаического человека характеризуется как правополушарное, что и является причиной его яркой образности и метафоричности.
Правополушарное мышление понимает метафору буквально, это свидетельствует о близости правополушарной «логики» к операциям архаического мышления: связи представлений выступают как сами представления, отношения между образами могут восприниматься как чувственные образы.
Язык архаического человека в целом и язык соответствующего религиозного опыта метафоричны также и потому, что человек той эпохи, вероятно, оказался в ситуации своего рода непропорциональности: уму открылись новые, ранее не использованные возможности, но бедность повседневного, обыденного вербального языка препятствовала их реализации. Бедность языка, потребность в иносказании вынуждали архаического человека использовать метафоры, посредством которых можно охватить большое количество вещей даже с помощью маленького словарного запаса. С. Лангер пишет по этому поводу: «Метафора является нашим самым поразительным свидетельством абстрактного видения, свидетельством способности человеческого ума использовать презентативные символы. Каждый новый опыт или новое понятие о вещах вызывает прежде всего определенное метафорическое выражение. Когда идея становится знакомой, это выражение “увядает”» [14, с. 127].
Таким образом, большая роль правополушарного мышления у архаического человека привела к формированию образности и метафоричности средств, при помощи которых субъект (шаман) получает информацию в религиозном опыте. Все значимые знания древних людей о мире, социуме и человеке содержались в мифе. Слово мифа не знак, а символ, способный соединять сознание и бессознательное, логичное и алогичное, чувственное и рациональное.
Язык магического ритуала многообразен, сложен и включает как вербальные: слово мифа, заклинание; так и невербальные средства: визуальные образы, изображения, звуки, жесты, предметы-символы и пр. Это свидетельствует о доминанте в религиозном опыте шамана пространственно-образного мышления. Все отмеченные выше проявления шаманского опыта и особенности языкового выражения его содержаний свидетельствуют о наличии ряда выделенных Ю.М. Сердюковым [15, с. 98–105] признаков пространственно-образного мышления: 1) оно предшествует в фило- и онтогенезе мышлению логико-вербальному и является его основой; 2) изменяются временный порядок событий и характер причинно-следственных связей; 3) пространственно-образное мышление склонно к холистическому образу реальности, оперирует целостными образами; 4) оно эмоционально нагружено.
Ссылки:
-
1. Дубровский Д.И. Субъективная реальность как предмет философского и научного исследования: некоторые теоретико-методологические вопросы // Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке. 2011. № 3. C. 14–21.
-
2. Сердюков Ю.М. Контуры трансцендентального опыта. М., 2015.
-
3. Там же.
-
4. Забияко А.П. Религиозный опыт // Энциклопедия эпистемологии и философии науки. М., 2009. С. 819–820.
-
5. Леви-Стросс К. Структура мифа // Вопросы философии. 1970. № 7. С. 152–164.
-
6. Лосев А.Ф. Из ранних произведений. М., 1990.
-
7. Маковский М.М. Сравнительный словарь мифологической символики в индоевропейских языках. Образ мира и миры образов. М., 1996.
-
8. Цит. по: Уолш Р. Дух шаманизма. М., 1996.
-
9. Гроф К., Гроф С. Духовные опасности: понимание и лечение трансперсональных кризисов // Пути за пределы «Эго».
-
10. Леви-Брюль Л. Мистический опыт и символы первобытных людей // Мистика. Религия. Наука. М., 1998.
-
11. Уолш Р. Указ. соч. С. 144.
-
12. Там же.
-
13. Меркулов И.П. Когнитивные типы мышления // Эволюция. Язык. Познание. М., 2000.
-
14. Лангер С. Философия в новом ключе: исследование символики, разума, ритуала и искусства. М., 2000.
-
15. Сердюков Ю.М. Указ. соч. С. 98–105.
М., 1996.
Список литературы К проблеме языкового выражения трансцендентального опыта (на примере примитивной магии (шаманизм))
- Дубровский Д.И. Субъективная реальность как предмет философского и научного исследования: некоторые теоретико-методологические вопросы//Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке. 2011. № 3. C. 14-21.
- Сердюков Ю.М. Контуры трансцендентального опыта. М., 2015.
- Забияко А.П. Религиозный опыт//Энциклопедия эпистемологии и философии науки. М., 2009. С. 819-820.
- Леви-Стросс К. Структура мифа//Вопросы философии. 1970. № 7. С. 152-164.
- Лосев А.Ф. Из ранних произведений. М., 1990.
- Маковский М.М. Сравнительный словарь мифологической символики в индоевропейских языках. Образ мира и миры образов. М., 1996.
- Уолш Р. Дух шаманизма. М., 1996.
- Гроф К., Гроф С. Духовные опасности: понимание и лечение трансперсональных кризисов//Пути за пределы «Эго». М., 1996.
- Леви-Брюль Л. Мистический опыт и символы первобытных людей//Мистика. Религия. Наука. М., 1998.
- Уолш Р. Указ. соч. С. 144.
- Меркулов И.П. Когнитивные типы мышления//Эволюция. Язык. Познание. М., 2000.
- Лангер С. Философия в новом ключе: исследование символики, разума, ритуала и искусства. М., 2000.
- Сердюков Ю.М. Указ. соч. С. 98-105.