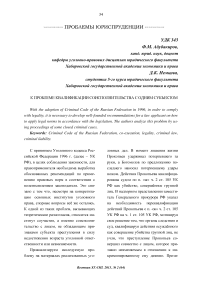К проблеме квалификации соисполнительства с одним субъектом
Автор: Абубакиров Ф.М., Немцева Д.К.
Журнал: Вестник Хабаровской государственной академии экономики и права @vestnik-ael
Рубрика: Проблемы юриспруденции
Статья в выпуске: 2, 2013 года.
Бесплатный доступ
С принятием Уголовного кодекса Российской Федерации в 1996 году в целях соблюдения законности необходимо разработать обоснованные рекомендации для заявителя закона о том, как применять правовые нормы в соответствии с законодательством. Авторы анализируют эту проблему, используя материалы некоторых закрытых уголовных дел.
Короткий адрес: https://sciup.org/14319763
IDR: 14319763
Текст научной статьи К проблеме квалификации соисполнительства с одним субъектом
С принятием Уголовного кодекса Российской Федерации 1996 г. (далее – УК РФ), в целях соблюдения законности, для правоприменителя необходима выработка обоснованных рекомендаций по применению правовых норм в соответствии с волеизъявлением законодателя. Это связано с тем что, несмотря на конкретизацию основных институтов уголовного права, спорные вопросы всё же остались. К одной из таких проблем, вызывающих теоретические разногласия, относится институт соучастия, а именно соисполни-тельство с лицом, не обладающим признаками субъекта преступления в силу недостижения возраста уголовной ответственности или невменяемости.
Проанализируем исследуемую проблему на материалах реализованных уго- ловных дел. В момент лишения жизни Прокопьев удерживал потерпевшего за руки, а Богомолов по предложению последнего наносил потерпевшему удары ножом. Действия Прокопьева квалифицированы судом по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ как убийство, совершённое группой лиц. В надзорном представлении заместитель Генерального прокурора РФ указал на необходимость переквалификации действий Прокопьева с п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ на ч. 1 ст. 105 УК РФ, мотивируя свое решение тем, что органы следствия и суд, квалифицируя действия осуждённого как совершение убийства группой лиц, не учли, что преступление Прокопьев совершил совместно с лицом, которое признано невменяемым в отношении к инкриминированному ему деянию. Прези- диум Верховного Суда Российской Федерации оставил надзорное представление без удовлетворения по следующим основаниям. По смыслу закона (ст. 35 УК РФ), убийство признаётся совершённым группой лиц, когда два или более лица, действуя совместно, с умыслом, направленным на совершение убийства, непосредственно участвовали в процессе лишения жизни потерпевшего, применяя к нему насилие, причём необязательно, чтобы повреждения, повлекшие смерть, были причинены каждым из них. Доводы же, изложенные в надзорном представлении, о том, что Богомолов признан в отношении инкриминированного ему деяния невменяемым и освобождён от уголовной ответственности за совершённое им в состоянии невменяемости общественно опасное деяние и к нему применены принудительные меры медицинского характера, в связи с чем действия Прокопьева не могут быть квалифицированы как совершённые группой лиц и подлежат переквалификации на ч. 1 ст. 105 УК РФ, не основаны на законе. При изложенных обстоятельствах действия Прокопьева квалифицированы правильно [1]. Данный пример формулирует одно из разработанных теорией уголовного права правил квалификации, применяемое в случае совершения преступления лицом, подлежащим уголовной ответственности, в соис-полнительстве с лицом, которое не подлежит уголовному преследованию. Действия лица, подлежащего уголовной ответственности, квалифицируются с учётом группового способа совершения преступления. Изложенную позицию Президиума Верховного Суда подкрепляют не сколько тезисов. Во-первых, неспособность лица нести уголовную ответственность не умаляет его возможности совершить общественно опасное деяние совместно с лицом, способным нести уголовную ответственность. В этом случае особенно показательными являются примеры совершения насильственных преступлений, когда лицо, не способное нести ответственность за совершение общественно опасного деяния, облегчает своими действиями совершение насильственного акта субъектом преступления. Во-вторых, для другого лица, которое способно нести ответственность за совершение преступления, не имеет значение субъектность соисполнителя, как в случае посредственного исполнения преступления, ему важнее совместность их действий, непосредственность участия соисполнителя в совершении преступления и результат данного участия - реализация умысла. Однако позиция Верховного Суда по данному вопросу представляется непоследовательной, а подобная квалификация противоречит положениям общей части УК РФ. Мы уже затрагивали в рамках предыдущих исследований проблемные вопросы квалификации деяний, совершённых в соучастии [2], и отмечали, что, например, п. 9 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 14 февраля 2000 г. «О судебной практике по делам о преступлениях несовершеннолетних» содержал следующее правило: «Необходимо иметь в виду, что совершение преступления с использованием лица, не подлежащего уголовной ответственности в силу возраста (ст. 20 УК РФ) или невменяемости (ст. 21 УК РФ), не создаёт соучастия». При этом на тот момент в Обзоре судебной практики Верховного Суда РФ за 4 квартал 2000 г. дано противоположное разъяснение: «Преступление признаётся совершённым группой лиц по предварительному сговору, если в нём участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном его совершении, независимо от того, что некоторые из участвовавших не были привлечены к уголовной ответственности в силу недостижения возраста уголовной ответственности или ввиду невменяемости» [3]. В соответствии с действующим разъяснением Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г. «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» действия субъекта преступления оцениваются при посредственном исполнительстве, а также при соучастии в форме подстрекательства. В иных действующих разъяснениях пленумов Верховного Суда нет однозначного решения поставленной проблемы. Таким образом, практика признания соисполнительства с лицом, не способным нести уголовную ответственность в силу возраста или невменяемости, носит казуальный характер.
Высказанная уголовно-правовая оценка высшей надзорной инстанции поддерживается отдельными авторами. Например, Р.Р. Галиакбаров утверждает, что проявление анализируемой группы в насильственных посягательствах не охватывается правилами соучастия в преступлении. Оно имеет самостоятельное правовое значение, выступая в качестве одного из способов совершения преступления [4]. Таким образом, групповой способ совершения преступления выступает как при- знак объективной стороны деяния и используется субъектом преступления в качестве облегчения его совершения. Невменяемость соисполнителя, равно как и неспособность его в силу иных обстоятельств нести уголовную ответственность за совершение преступления, не влияет на уголовно-правовую оценку действий способного нести ответственность соисполнителя как групповым и предполагает наличие отягчающих вину субъекта преступления обстоятельств. Т.Д. Хмелевская предлагает дополнить ст. 35 УК РФ родовым определением преступной группы: «Преступление считается совершённым группой лиц, если в его совершении участвовали два или более исполнителя, из которых хотя бы один подлежит уголовной ответственности» [5]. Вероятно, такие суждения вызваны ранее данными разъяснениями применительно к грабежам, разбоям и изнасилованиям. В п. 19 постановления Пленума Верховного Суда РСФСР № 31 от 22 марта 1966 г. «О судебной практике по делам о грабеже и разбое» и в п. 9 постановления Пленума Верховного Суда РСФСР № 4 от 22 апреля 1992 г. «О судебной практике по делам об изнасилованиях» указано, что действия участников группового преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 117, ч. 2 ст. 145 и п. «а» ч. 2 ст. 146 УК РСФСР (соответственно п. «б» ч. 2 ст. 131, п. «а» ч. 2 ст. 161 и п. «а» ч. 2 ст. 162 УК РФ 1996 г.), надлежит квалифицировать по указанной формуле независимо от того, что остальные участники преступления не были привлечены к уголовной ответственности ввиду их невменяемости, либо в силу требований ст. 10 УК РСФСР (ст. 20 УК РФ) или по другим предусмотренным законом основаниям не были привлечены к уголовной ответственности. Стоит отметить, что действующие постановления Верхов- ного Суда РФ от 15 июня 2004 г. № 11 «О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 131 и 132 Уголовного кодекса Российской Федерации» от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» не содержат подобных разъяснений.
Позиция Верховного Суда, нашедшая отражение в цитируемых постановлениях, и ранее вызывала критические замечания со стороны некоторых криминалистов, усмотревших в этой точке зрения попытку создать конструкцию соучастия с одним виновным лицом [6]. Представляется соответствующим позиции, выработанной теорией уголовного права, мнение Л.Д. Гаухмана и А.В. Галаховой о том, что «отсутствие какого-либо признака общего субъекта преступления исключает состав преступления. Если преступление совершается двумя или более лицами и одно из них не обладает хотя бы одним признаком общего субъекта, соучастие исключается» [7]. Подобную позицию поддерживает большинство авторов учебников по уголовному праву: «Совершение преступления группой лиц – это не просто отягчающее (квалифицирующее) обстоятельство, но это ещё и определённая форма соучастия, прямо выделяемая в статьях Общей части и описываемая с помощью определённых признаков. Следовательно, если при фактическом совершении преступления какой-либо признак, как в данном случае множественность субъектов, будет отсутствовать, то нельзя и говорить об институте соучастия»[8].
Мы солидаризируемся с мнением научных сотрудников, отрицающих практику признания группового преступления при наличии одного субъекта. В обоснование своей позиции приведём, как минимум, два аргумента. Во-первых, анали- зируемое судебное толкование противоречит теории уголовного права и расходится с общим понятием соучастия, закреплённым в ст. 32 УК 1996 г., из которого следует, что одним из обязательных объективных признаков соучастия является участие в совершении преступления двух или более лиц, то есть совершение преступления субъектами, признанными вменяемыми и достигшими возраста уголовной ответственности. Во-вторых, из смысла ст. 35 УК, где закреплено, что «преступление признаётся совершённым группой лиц, если в его совершении совместно участвовали два или более исполнителя без предварительного сговора», можно сделать логическое заключение о том, что в групповом преступлении всегда участвуют, как минимум, два исполнителя. В соответствии с ч. 2 ст. 33 УК «исполнителем признаётся лицо, непосредственно совершившее преступление либо непосредственно участвовавшее в его совершении совместно с другими лицами (соисполнителями), а также лицо, совершившее преступление посредством использования других лиц, не подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости или других обстоятельств, предусмотренных настоящим Кодексом». От посредственного исполнения преступления исследуемая форма взаимодействия субъекта преступления с лицом, не обладающим признаками субъекта преступления в силу недостижения возраста уголовной ответственности или невменяемости, отличается его собственным участием в преступлении. Если на законодательном уровне исследуемая проблема будет решена в пользу признания таких преступлений групповыми, справедлива постановка вопроса А. Кладковым: «С какого минимального возраста лицо может считаться членом группы, хотя и не являющимся субъектом преступления? Нельзя же считать преступление групповым на том основании, что оно совершено вместе, например, с дошкольником. Ведь фактически дети выступают «в руках» преступника в качестве «орудия» совершения преступления» [9].
А. Рарог справедливо отмечает, что научная обоснованность позиции Верховного Суда РФ продолжает оставаться дискуссионной, бесспорно лишь одно: безусловно повышенная по сравнению с единолично совершаемыми преступлениями общественная опасность преступления, совершаемого годным субъектом совместно с невменяемыми либо лицами, не достигшими возраста, с которого наступает уголовная ответственность, с необходимостью требует увеличения наказания для годного субъекта такого преступления [10]. Пока такому специальному проявлению принципа справедливости (ст. 6, 60 УК РФ) соответствует позиция, занятая Верховным Судом РФ.
Таким образом, предложенные казуальные толкования приводят к двусмысленному пониманию института соучастия. В соответствии с разработанными принципами уголовного права полагаем несоответствующей букве закона исключение, имеющееся в судебной практике тенденцию расширительного толкования минимальной численности виновных при соисполнительстве. Следовательно, необходимо руководствоваться положениями Общей части Уголовного кодекса, указывающими на то, что групповым преступление признаётся при наличии не менее двух лиц, обладающих юридическими признаками субъектов (вменяемых и достигших возраста уголовной ответственности). Для окончательного решения этой проблемы представляется необходимым уточнение позиции законодателя.
Список литературы К проблеме квалификации соисполнительства с одним субъектом
- Бюллетень Верховного Суда РФ. 2005. № 4.
- Абубакиров, Ф. М. Спорные вопросы института соучастия/Ф. М. Абубакиров//Вестник ДВЮИ МВД России. 2002. № 1.
- Бюллетень Верховного Суда РФ. 2001. № 8.
- Галиакбаров, Р. Как квалифицировать убийства и изнасилования, совершённые групповым способом/Р. Галиакбаров//Российская юстиция. 2000. № 10.
- Хмелевская, Т. А. Виды групповых преступлений и их квалификация по УК РФ/Т. А. Хмелевская. -М., 2000. С. 11.
- Уголовное право: в 5 т./под ред. Н. Ф. Кузнецовой, И. М. Тяжковой. -М.: Зерцало, 2002. Т. 1.
- Галахова, А. В. Вопросы квалификации преступлений в уголовном праве и судебной практике (по признакам субъекта)/А. В. Галахова//Российский следователь. 2010. № 17. С. 14 -18.
- Орлов, В. С. Виды и формы соучастия в преступлениях несовершеннолетних/В. С. Орлов//Вестник МГУ. 1967. № 1. С. 42 -43; Фролов, А. С. Соучастие в преступлениях несовершеннолетних: автореф. дис.. канд. юрид. наук/А. С. Фролов. -Свердловск, 1968. С. 5 -6; Тельнов, П. Ф. Ответственность за соучастие в преступлении/П. Ф. Тельнов. -М., 1974. С. 24 -26.
- Кладков, А. Квалификация преступлений, совершённых в соучастии/А. Кладков//Законность. 1998. № 8.
- Рарог, А. Понимание Верховным Судом РФ «группы лиц» соответствует принципу справедливости/А. Рарог, Г. Есаков//Российская юстиция. 2002. № 1.