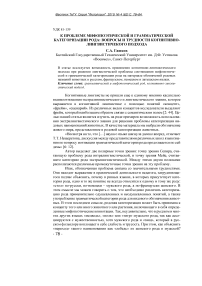К проблеме мифопоэтической и грамматической категоризации рода: вопросы и трудности когнитивно-лингвистичекого подхода
Автор: Гашков Сергей Александрович
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Вопросы теории и истории языка
Статья в выпуске: 4, 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуется возможность применения когнитивно-лингвистического подхода при решении лингвистической проблемы соотношения мифопоэтической и грамматической категоризации рода на материале обозначений родовых названий животных в русском, французском, немецком и латышском языках.
Грамматический и мифопоэтический род, когнитивно-лингвистический подход
Короткий адрес: https://sciup.org/146281543
IDR: 146281543 | УДК: 81-139
Текст научной статьи К проблеме мифопоэтической и грамматической категоризации рода: вопросы и трудности когнитивно-лингвистичекого подхода
Когнитивные лингвисты не пришли еще к единому мнению касательно взаимоотношения экстралингвистического и лингвистического знания, которое выражается в когнитивной лингвистике с помощью понятий «концепт», «фрейм», «сценарий». Из различных видов концептов исследователи выделяют фрейм, который наибольшим образом связан с семантическим полем [2: 44]. Целью нашей статьи является изучить на ряде примеров возможность использования экстралингвистического знания для решения проблемы категоризации видовых наименований животных. В качестве материала мы выбрали обозначение живого мира, представленное в родовой категоризации животных.
«Несмотря на то, что […] наука о языке шагнула далеко вперед, отмечает Т.Т. Нещеретова, дискуссия между представителями различных школ языкознания по вопросу мотивации грамматической категории рода продолжается по сей день» [6: 12].
Автор выделяет две полярные точки зрения: точку зрения Сепира, считающую проблему рода интралингвистической, и точку зрения Мейе, считавшего категорию рода экстралингвистической. Между этими двумя полюсами располагаются различные промежуточные точки зрения на эту проблему.
Итак, обозначенная проблема связана со значительными трудностями. Они находят выражение в практической деятельности педагога, затрудняющегося подчас объяснить, почему в разных языках, в которых присутствует категория рода, одно и то же понятие не всегда относится к одному и тому же роду: «стол» по-русски, по-немецки – мужского рода, а по-французски женского. В этом смысле мы можем говорить о том, что необходимо различать категоризацию рода применительно одушевленных и неодушевленных понятий, а также употребление грамматической категории рода для видового обозначения животных. В этом последнем смысле, родовая категоризация может быть привязана к концепту того или иного животного или растения, включающего в себя определенные мифопоэтические коннотации. Так, неудивительно, что в русском и многих других языках «медведь», «волк» или «тигр» мужского рода, так как ассоциируются с мужественностью, хотя мужского рода и «заяц», который в русском фольклоре воплощает в себе слабость и трусость. При этом, как объяснить «переход» такого наименования как «лебедь» из женского рода в мужской? - 78 -
Многие похоже звучащие названия экзотических животных в русском и французском языках разного рода. Так, горилла, зебра – по-русски женского, а зебу и кенгуру – среднего рода, в то время как le gorille, le zèbre, le zébou, le kangourou – все мужского. Так или иначе, при всех видимых противоречиях, связь между мифологической и грамматической категорией рода, подмеченная еще Мейе, остается несомненной.
Помимо теории Мейе известна также согласовательная теория рода, развиваемая в свое время Потебней, А.А. Зализняком, В.В. Иоффе, согласно которой грамматический род имеет, прежде всего, формальное значение, так что выражение «наша воевода» было некогда грамматически правильным [7: 106]. Напротив, А.Т. Аксенов провел сравнительное исследование более, чем 150 языков, показывая, что «мотивированность родовых классификаций очевидна», хотя «степень мотивированности может варьироваться» даже в рамках одного языка. Такие исследователи как В.Гак предпочитают сводить категорию рода к более общим и «историческим» категориям, таким как «неодушевленное – одушевленное». «Что выражает форма мужского рода в русском слове дом ? - пишет С.Д. Кацнельсон, - В сущности, не более, чем некую формальную примету, пустую в семантическом плане и в силу этого «иррациональную», «мнимую», но необходимо несущую в себе внутреннюю потенцию согласования».[3: 27] Категория рода или класса, продолжает он, представляет собой некую потенциальную предпосылку согласования, которая может быть раскрыта только на синтаксическом уровне, то есть, лишь тогда, когда содержательное и формально правильное согласование будет построено. В этом смысле, русский язык допускает формы «черный кофе» и т.д. В.В. Виноградов прямо заявлял, что у большинства слов, обозначающих неодушевленные предметы форма рода является «бессодержательной», «пережитком предыдущих эпох», когда подобного рода классификация («мужское-женское») соответствовала данной стадии мышления. С другой стороны, как показывает Аксенов, в языках, где категория рода является устаревшей и не употребляется, таких, как английский, интуиция выражения родовой экстралингвистической мотивации остается в силе (a boy – his book, a girl – her book) [1: 6].
Здесь уместно вспомнить, что Дж. Лакофф, на страницах своей знаменитой книги «Женщины, огонь и опасные вещи», рассматривает австралийский язык дьирбал, в котором имеются четыре именных класса (bayi, balan, balam, bala), обязательные при всех существительных и категоризующие действительность весьма оригинальным семантическим образом: «мужской род», «женщины, огонь и опасные вещи», «деревья и плоды», «всё прочее», живо напоминающие страницы вымышленной «китайской энциклопедии» Борхеса [12: 92]. (В современности язык дьирбал практически позабыт аборигенами и в нем сохраняется только два рода: мужской и женский.)
С когнитивно-лингвистической точки зрения мы не можем дистанцироваться от исключительно историко-сравнительного взгляда на данный вопрос. Родовая категоризация обнаруживает, в этом смысле, связь с глубокими мифопоэтическими коннотациями. Так, проблема среднего рода в существительных das Kind, das Lamm, das Kalb, не сводится только к тому, что в немецком языке средний род обозначает детенышей, но и то, что имеется некий дополни- тельный мифопоэтический контекст «наивного сознания» в котором эти концепты могут быть контекстуально сопоставлены на уровне их коннотаций. В этом смысле, не так важно, являются ли одни категории первичными по отношению к другим. Важно то, что взаимосвязь и сложная мотивированность родовых категорий в разных языках создают то когнитивно-семантическое поле, в котором «наивное» мифопоэтическое сознание обнаруживает перед нами богатство концепта, не ограниченное, а расширенное благодаря его пониманию в многоязыковом контексте.
Строго говоря, у неодушевленных предметов нет родовых признаков, позволяющих их категоризировать. С точки зрения когнитивной лингвистики имеется представление о «наивной картине мира». Возможно ли установить строгую зависимость «наивных» представлений о мире, находящих свое выражение в мифологической и мифопоэтической национальной картине мира и категорией грамматического рода? Здесь мы не можем прийти к однозначному решению. Вероятным методом ее решения является статистический подсчет частотности контекстного употребления
На материале народных сказок мы видим, что с определенными животными связан определенный антропоморфный образ. Влияние родовой принадлежности животного (мужское-женское) не носит, по всей очевидности, систематического характера. Гораздо большее значение здесь имеют повторяющиеся формулы и речения, закрепляющие в сознании слушателя антропоморфный образ животного. Так, в немецком языке волк (der Wolf) и лиса (der Fuchs) – оба мужского рода. Тем не менее, в сказке братьев Гримм «Волк и лиса» (1819) между ними соблюдается определенная градация: волк сильнее лисы, что выражается в формуле: «Der Wolf hatte den Fuchs bei sich, und was der Wolf wollte, das mußte der Fuchs thun, weil er der schwächste war, und der Fuchs wär gern des Herrn losgewesen. (волк имел лиса при себе, и чего волк хотел, то лис и делал, ибо он был слабее, и лис был бы рад от господина отделаться)» Вассальные отношения волка и лисы в русской (или латышской) сказке о волке и лисе не выражены, они противопоставляются, прежде всего, как сила и хитрость. Антропоморфное отношение между ними выражается формулой «битый небитого везет» («kults nekultu nes»).
Проблема, которая из этого вытекает, носит, на наш взгляд, отношение к вопросу об эквивалентности перевода. Следуют ли, в таком случае, необходимые изменения при переводе названий животных и растений с одного языка на другой? Например, известно, что классическое произведение А. де Сент-Экзюпери, вышедшее в Нью-Йорке в 1943 году «Маленький принц», появилось сначала в английском переводе, и вскоре, на языке оригинала – французском. В современном английском языке категория рода отчетливым образом не присутствует, однако род персонажа Лиса вызвал в свое время дискуссию. Если – это лиса, то она становится главным антагонистом произведения, противопоставляя себя Розе (Цветку). Но речь идет об образе Друга, Renard – во французском мужского рода. Это, собственно, имя Рейнеке-Лиса (от франкского Reginhart – «сильный в совете»), вытеснившее классическое старофранцузское goupil (от латинского vulpiculus с влиянием германского wolf) бывшее тоже мужского рода. В русском переводе употребляется также слово Лис, хотя видовое «лиса» - женского рода. Собственно, «лис» - в русской мифопоэтической картине мира - 80 - практически отсутствует. Например, в латышском переводе употребляется женский род, lapsa, что, как кажется, вызывает ряд грамматических и ассоциативных изменений у читателя. Pieradināta (прирученная), vajadzīga (необходимая), vienīgais viena pasaulē (единственная на свете), draudzene (подруга). По сюжету же «подругой» Принца является как раз «цветок» («роза»), воплощающая в себе саму женственность.
Итак, среди других персонажей книги наибольший интерес представляет цветок («роза»). В 7 главе Маленький Принц начинает говорить о цветке, у которого растут шипы. В русском переводе сохранено слово «цветок», так как иначе это разрушило бы сюжетную линию книги. Во французском языке слово fleur женского рода, также в немецком, латышском и других. Другой персонаж, который может показаться «женским» - «змея», по-русски, по-немецки или по-латышски женского рода, но по-французски употребляется мужское serpent. В русском языке возможно слово «змей», но его семантическое поле (коварный змей, воздушный змей) не соответствует задачам текста.
В переводах мы часто сталкиваемся с трудностями, происходящими из-за несоответствия рода животного. Так, в переводе на французский книги Виталия Бианки «Как муравьишка домой спешил», муравей превращается в « dame fourmie » («госпожу-муравьиху»). (С биологической точки зрения это оказывается, впрочем, даже более верным, так как рабочие особи муравья – самки.) В «Сказке о царе Салтане» А.С. Пушкина «лебедь» – женского рода, что доставляет немало трудностей переводчикам на французский и немецкий, в которых лебедь (der Schwan, le cygne) исключительно мужского. При этом, белка во французском - мужского рода (l’écureuil), а в немецком – среднего (das Eichhorn) что противоречит русскому образу белки, как воплощению легкости и игривости духа («белка песенки поет»). В переводе на немецкий «Мухи-Цокотухи» Чуковского возникает та проблема, что и муха (die Fliege), и комар (die Mücke) и паук (die Spinne) в немецком – женского рода, что разрушает сюжетную линию сказки и заставляет переводчика прибегать к трансформациям. Мужественный образ комара является биологически неверным, так как наблюдаемый нами в повседневной жизни «комар» - самка.
Говоря о мифопоэтическом разделении живого мира, необходимо также учитывать важную оппозицию «домашнее»- «дикое» животное. Как показал немецкий лингвист Лео Вайсбергер, считавший, что язык является посредником между окружающим миром и человеком, наивное сознание допускает следующую наивную категоризацию живого мира: das Vieh (домашний скот) и остальные, т.е. das Tier (бегающие), der Fisсh (плавающие), das Vogel (летающие), das Wurm (ползающие) [5]. Примечательно, что некоторые видовые наименования домашних животных – среднего рода (das Pferd, das Schwein). Сравним ряд видовых названий животных. В русском: корова (ж.р.), лошадь (ж.р.), собака (ж.р.), свинья (ж.р.), кошка (ж.р.), в немецком die Kuh, das Pferd, der Hund, das Schwein, die Katze, во французском la vache, le cheval, le chien, le cochon, le chat, в латышском govs (м.р.), zirgs (м.р.), suns (м.р.), cuka (ж.р.), kaķis (м.р.). Как мы видим, представления об «общем роде» являются особенными для каждого языка в отдельности. При этом, мифопоэтические коннотации, связанные с тем или иным животным, во многих языках, как правило, совпадают и от грамматического рода напрямую не зависят.
В русском языке имеются интересные параллели «конь» и «лошадь», «собака» и «пес». С одной стороны, они воспринимаются как родовые, по принципу «мужское – женское». Слово «собака», пришедшее из иранских или тюркских языков (сравните, турецкое köpek), было изначально мужского рода. Наименование «лошадь» является словом женского рода и употребляется в качестве видового. Интересным здесь является особенно то, что различие между синонимами «пес» - «собака», «конь» - «лошадь» имеет в том числе мифопоэтическое значение. Тюркизмы женского рода служат видовым наименованием, в то время как славянизмы мужского рода не просто обозначают животное мужского пола (как в случаях «лис», «кот»), а удваивают основное значение слова (ср. «конные бега» и «лошадиная сила»). Наиболее частый выбор женского рода в качестве общего в русском языке, поэтому, может быть мотивирован тем, что женское более тяготеет в нем к метафоричности, более абстрактному содержанию, некоторой свободе от определяющего содержание контекста. Это подтверждается и данными, которые приводит Аксенов [1: 19]. Женский род зачастую обозначает не только особь женского пола, но особь в более собирательном значении (сравните: «лошадь», «собака»), в то время как мужской обозначает единичность, исключительность (сравните: «конь», «пёс»). «Грамматическая категория рода, - отмечает лингвист, - представляет собой довольно сложное сочетание планов выражения и содержания…» [1: 24].
Если говорить о неодушевленных концептах, то здесь также мифопоэтическая составляющая категории рода может представлять интерес. Так, в латыни слово mare («море») и folium («цветок») – среднего рода, а во французском, в котором слова утраченного среднего рода перешли в мужской слова « la mer » « la feuille » – женского. Исторически это может быть связано с тем, что латинское множественное число среднего рода folia, gaudia воспринималось как женский род [10: 11]. Считается, что именно мифопоэтическая мотивация заставила французский язык предпочесть женский род среднему в слове «море». И, тем не менее, в стихотворении Ш. Бодлера «Человек и море» море и человек «братья-вороги, вечные борцы» («lutteurs éternels», «frères implacables»). Ботанический мир, где половой диморфизм также присутствует, также содержит достаточно убедительные примеры неточности языковых выражений, происходящих из мифопоэтической мотивации: сережки на березе или ольхе – это мужские цветки, папоротник женский (filix femina) и папоротник мужской (filix mas) – два вида папоротника, тогда как оба растения являются двуполыми.
Значительный вклад в понимание проблемы рода вносит, на наш взгляд, изучение так называемой фолксистематики. Биологи часто отмечают, что в основе научных представлений о виде, видообразовании и систематике живого мира оказывается наивная картина мира. Наивная картина мира по сути своей фокусируется вокруг представителя данного народа, данного типа общества. Это обуславливает очевидное противоречие между «фолк-систематикой» и научной систематикой, направленной на классификацию животного мира. Исследователи фолксистематики приходят к релятивистским выводам: народная систематика зависит полностью от традиций, особенностей, потребностей того или иного народа [8]. Таким образом, никакого общего принципа, согласно которому оказывается возможным указать систематическую зависимость катего- рии рода от какого-то общего ряда коннотаций не существует. Противопоставление категорий обозначения живущего реальным различениям живой природы, введенное номиналистом Локком, было фактически опровергнуто классификацией Линнея, отождествившей логическое и эмпирическое представление о биологическом виде. Наивное же представление о животном или растении ассоциируется с взрослой особью, которую биолог рассматривает как «имаго». Язык четко отделяет «головастика» от «лягушки», «гусеницу» от «бабочки» и т.д.
На мифопоэтическом уровне, «гусеница» и «бабочка» прямо противостоят друг другу как безобразное и прекрасное. У Сент-Экзюпери роза позволяет Маленькому Принцу оставить на себе трех гусениц, чтобы увидеть бабочек. «Червеобразные личинки насекомых (гусеница и т.п.) суть как бы один воплощенный инстинкт питания во всей его ненасытности» - пишет В.С. Соловьев [11: 195]. В этом смысле, язык всячески стремится упорядочить стадии развития подобных животных в терминах «превращения личинки во взрослую особь». При этом не рассматривается тот факт, что многие животные (насекомые, земноводные) проводят большую часть своей жизни в «личиночном» состоянии, и иногда, как аксолотль или подёнка, практически всю. Представление о превращении, в свою очередь, является важнейшим «наивным» представлением, нашедшим свое отражение и получившем дальнейшее развитие в магии, науке, философии, религии. Мифопоэтический концепт превращения раскрывает свой сверхъестественный характер, например, в «Метаморфозах» Овидия: «Ныне хочу рассказать про тела, превращенные в формы. //Новые. Боги, ведь вы превращения эти вершили» («in nova fert animus mutatas dicere formas/corpora. Di, coeptis – nam vo mutastis et illas»).
Итак, если представляется невозможным проследить систематическую связь между экстралингвистическим мифопоэтическим родом и родом грамматическим, утверждать о том, что мифопоэтическое представление о роде не может иметь никакого значения для обозначения грамматического рода также нельзя. Если мы опираемся на когнитивно-лингвистическую идею о концепте, то мы должны включить в семантическое поле данной лексемы, все существующие и возможные (идущие из устаревших форм или даже других языков, с которыми, так или иначе, имеется взаимодействие) коннотации.
Список литературы К проблеме мифопоэтической и грамматической категоризации рода: вопросы и трудности когнитивно-лингвистичекого подхода
- Аксенов А.Т. К проблеме экстралингвистической мотивации грамматической категории рода // ВЯ. 1984. №1. С. 14.
- Жарина О.А. "Концепт" vs "фрейм": проблема дефиниции и соотношения понятий в современной когнитивной лингвистике. Балтийский гуманитарный журнал, т. 6, №3 (20), 2017.
- Кацнельсон С. Д., Типология языка и языковое мышление, Л., 1972.
- Маньков А.Е. Происхождение категории рода в индоевропейских языках // ВЯ. 2004. №5. С. 79
- Маслова В.А. Введение в когнитивную лингвистику. Учебное пособие. М.: Флинта: Наука, 2011
- Нещеретова Т.Т. К вопросу о происхождении и онтологической сущности грамматической категории рода.//Вестник Адыгейского Государственного Университета, Серия 2, 2009.
- Ноздрина Л.А. Текстовый потенциал категории грамматического рода // Вестник МГЛУ. Вып.482. - 2004. - С. 105 - 122.
- Павлинов И.Я. "Основания биологической систематики: история и теория", Москва, 2018, 768 с.
- Руденкова И.В. Проблема семантики грамматической категории рода: подходы и концепции.
- Сергиевский М.В. История французского языка, М., Юрайт, 2018.
- Соловьев В.С. Собрание сочинений, т.2, М.
- Lakoff, G. Women, fire and dangerous things, Chicago, University of Chicago, 1987, 762 с.