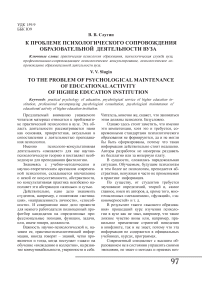К проблеме психологического сопровождения образовательной деятельности вуза
Автор: Слугин Виктор Владимирович
Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary
Рубрика: Психология
Статья в выпуске: 1 (25), 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются актуальные, с точки зрения автора, проблемы преподавания психологии в вузе, содержания психологии как учебной дисциплины. Автор отводит психологии как науке и учебной дисциплине роль инструмента, который должен оптимизировать процесс личностного и профессионального становления будущего специалиста, выпускника вуза. В статье также представлена точка зрения автора на содержание психологического консультирования в вузе.
Практическая психология образования, психологическая служба вуза, профессионально-сопровождающее психологическое консультирование, психологическое сопровождение образовательной деятельности вуза
Короткий адрес: https://sciup.org/14720810
IDR: 14720810 | УДК: 159.9
Текст научной статьи К проблеме психологического сопровождения образовательной деятельности вуза
Предлагаемый вниманию уважаемого читателя материал относится к проблематике практической психологии в вузе. Эта область деятельности рассматривается нами как основная, приоритетная, актуальная в сопоставлении с деятельностью преподавания психологии.
Именно психолого-консультативная деятельность «оживляет» для нас научнопсихологическую теорию и поставляет необходимую для преподавания фактологию.
Знакомясь с учебно-методическим и научно-теоретическим арсеналом современной психологии, складывается впечатление о некой ее искусственности, абстрактности, но консультативная практика неизбежно наполняет эти абстракции «жизнью» и сутью.
Действительно, одно дело знакомить студентов, например, с понятиями «мотивация», «направленность личности», «способности». И совершенно иное дело провести для некоего работодателя полноценный профотбор кандидатов на определенные профессиональные позиции, функции, задачи, или, иначе говоря, должности.
Важность научно-психологической и, назовем ее, практико-психологической информации, иногда говорят – знаний, четко проявляется и тогда, когда поступает «заказ» на обучение «вхождению в коллектив», на развитие коммуникабельности, уверенности в себе.
Читатель, конечно же, скажет, что заниматься этим должны психологи. Безусловно.
Однако здесь стоит заметить, что именно эти компетенции, хотя это и требуется, современными стандартами психологического образования не формируются, да и не могли бы быть сформированы, потому что такая информация действительно стоит недешево. Авторы разработок не намерены раздавать их бесплатно или за мизерную плату.
В сущности, сложилась парадоксальная ситуация. Обучаемым, будущим психологам и тем более не психологам, преподается абстрактная, ненужная и часто не применяемая в практике информация.
По существу, от студентов требуется заучивание определений, теорий и, самое главное, имен их авторов, а, кроме того, многочисленных «механизмов», «функций», «закономерностей» и т. д.
В результате такого «высшего образования» прошедший курс изучения психологии в вузе как не знал, например, что такое ложное чувство вины или, например, правильное применение стратегий поведения в конфликте, так и не знает, потому что эта информация не содержится в официальных учебниках, курсах, программах.
Современный специалист с высшим образованием не в состоянии управлять своими эмоциями, не знает о методах и приемах воз- действия на собеседника. Не знает, что такое «установление психологического контакта с собеседником». Не может объяснить, что такое «понимание» другого человека, не говоря о том, чтобы продемонстрировать это понимание. Не способен отличить внушение от убеждения. Что уж говорить о применении в собственной жизни и деятельности таких психологических феноменов (механизмов), как эмпатия, идентификация, рефлексия.
Все это потому, что перечисленные, как теперь модно говорить, «компетенции» не входят в учебные программы, в учебники. Это знает любой вузовский преподаватель психологии, поскольку постоянно изучает то, что «спускается» сверху.
Почему же нет социального заказа на такие «компетенции»? Ответ сколь неприятен, столь же и очевиден. Всего этого нет в культуре, в психологии современного российского «общества».
Приведенные выше для иллюстрации психологические «компетенции» и феномены не востребованы ни в управлении, ни в культуре, ни в практике общественных отношений.
Все вышеперечисленное необходимо с точки зрения искусства управленческой борьбы В. Тарасова при именно управлении. Для того же, чтобы держать в повиновении, применяются другие механизмы, но никак не эмпатия или рефлексия.
В реальности в процессе вузовского образования, с нашей точки зрения, происходит что угодно, но только не психологическое просвещение в его подлинном смысле.
По нашему мнению, происходит, как теперь модно говорить, «имитация» образовательной деятельности. Студент в лучшем случае должен «шпарить наизусть» всевозможные определения: что такое личность? что такое темперамент? что такое память?
Но при этом перед ним не стоит задача развивать конкретные личностные качества, необходимые в будущей профессии. Например, нет задачи учиться управлять своим темпераментом. Студент не знает особенностей своей памяти и не развивает ее.
Совершенно недавно во время встречи с коллегами – преподавателями художественно-графического отделения педагогического колледжа у меня неожиданно родилось такое сравнение, что наше преподавание психологии можно было бы сравнить с тем, что живописи обучали бы теоретически. То есть рассказывали бы о композиции, жанрах, художниках, картинах, но не учили бы рисовать или, как говорят специалисты, «писать». А в преподавании психологии, по моему горькому наблюдению, именно так и происходит.
Это ошибка или системный просчет. Такое положение дел неслучайно. Картина парадоксальная. Людей с психологическими проблемами все больше, а профессиональное обучение психологов – все меньше. И по количеству, и по качеству.
В ряде случаев ситуация, по нашему мнению, просто доведена до абсурда. Например, из 540 академических часов 500 часов студент должен учить предмет самостоятельно. Это все равно, что самостоятельно по учебникам учиться управлять транспортом или делать хирургические операции.
В отличие от расхваливаемого коммерчески заинтересованными «специалистами» и управленцами, и интенсивно продвигаемого во всем мире дистанционно-заочного образования, мы настаиваем на том, что получение образования в области практической (подчеркиваем это) психологии дистанционно – это профанация образования.
Никакая книга или методически материалы не могут заменить полноценного взаимодействия и общения. Необходимо живое общение. Нужна разумная комбинация.
Этот вывод – результат обучения психологическому консультированию. Для самостоятельного изучения студентами нами разработан курс, включающий теоретический (лекционный материал), практикум в виде задач по анализу конкретных ситуаций, итоговый тестовый контроль. Но живой рассказ, общение со студентами, что называется, «глаза в глаза» оказываются куда важнее, полезнее и значительнее.
Нами припоминается изучение монографий В. В. Давыдова в студенческий период. Многое невозможно было бы понять без помощи непосредственного его ученика и моего педагога и научного руководителя, в настоящее время доктора психологических наук, профессора бессменного заведующего кафедрой психологии нашего университета
-
В. П. Андронова. (Столь подробное перечисление официальных данных – знак особого и искреннего уважения к этому, безусловно, выдающемуся человеку, педагогу, ученому – психологу.)
Но живое, непосредственное общение с одним из классиков отечественной психологической науки, основателем собственной школы развивающего обучения, академиком, в тот момент президентом Российской академии образования, Василием Васильевичем Давыдовым в период обучения в очной целевой аспирантуре в его лаборатории Психологического института РАО в течение трех лет ничто заменить не может.
Все, что было непонятно в монографиях, все было им разъяснено, проиллюстрировано на примерах и пронаблюдаемо на живой практике экспериментального обучения.
В. В. Давыдов специально подчеркивал, что изложение материала в монографии предполагает определенный язык, стиль изложения, научную подачу материала. Книга имеет объем, и многое приходится сокращать или просто обозначать тезисно.
А вот при чтении лекций или, тем более, при непосредственном индивидуальном общении можно уже позволить себе частности, подробности. Именно это фактически удаляется из образования теми, кто непосредственного отношения к нему не имеет и специфики не представляет.
Именно благодаря психологоконсультативной деятельности в качестве психологической службы университета мы и пришли к данным выводам. Обучение в вузе в течение пяти лет не приводит к качественному изменению интеллекта студентов. (Об этом же говорил в свое время и В. В. Давыдов относительно начальной ступени обучения в школе.)
Вуз не дает студентам инструментария для качественного решения возникающих жизненных проблемных ситуаций, не формирует культурную продуктивность, т. е. не способствует улучшению качества собственной жизни и самочувствия. Об этом мы пишем неоднократно в течение более чем десяти лет, не надеясь на изменение ситуации, а просто потому, что молчать тоже нельзя.
Неоднократно приходилось слышать такое: «У меня два диплома о высшем об- разовании», но, наблюдая за этими людьми, хотелось сказать: «Сколько бы у вас их ни было – на самом деле у вас нет их ни одного».
Потому что, «если считаешь, что знаешь, но не умеешь применить – считай, что не знаешь». Искренняя благодарность В. Серкину за эту фразу в его книге «Хохот шамана» [6]. Постоянно рекомендуем и даем эту книгу всем желающим студентам и слушателям.
Всем известно выражение «давать знания». Школа «дает знания», вуз «дает знания». По нашему мнению, знания человек может получить только сам, а дают ему информацию. Здесь мы также всецело на стороне уважаемого «шамана», описанного В. Серкиным.
И алгоритм формирования этого знания, по нашему, на сегодняшний день мнению, следующий: 1) информация; 2) интериоризи-рованная информация; 3) навык; 4) умение; 5) знание.
Преподаватель дает информацию, которую обучаемый должен усвоить, «переложить на свои слова», наполнить своими фактами, т. е. интериоризировать. А затем должен начать пытаться применять (навык). Затем расширять сферу применения (умение). И только на завершающем этапе научиться применять автоматически в соответствующей ситуации. Это, по нашему мнению, и есть уже знание.
Сказанное можно проиллюстрировать на примере обучения вождению автомобиля. Вначале инструктор объясняет «матчасть» и правила. Обучаемый их запоминает, по-своему пересказывает. Как садиться, как пристегиваться, как включать и т. д. Затем приобретаются первоначальные навыки на полигоне: начинать движение, останавливаться и т. д.
Затем начинается расширение навыка – езда по городу. Формируется умение ездить по городу, например. А уже затем – знание. Доехать на автомобиле в любую доступную географическую точку. Это и есть – знаю, как управлять автомобилем.
Психологическое образование в вузе сегодня – часто даже не самая первая ступень, потому что даже информация в учебниках часто «оторвана» от жизненных реалий студента, от его насущной жизни и грядущих жизненных и профессиональных задач.
Ни преподаватель, ни студент часто не могут четко сказать, что и для чего необходимо из психологии, например, учить. Та же картина и с другими гуманитарными науками в вузе.
Для нас очевидно, что изучение блока гуманитарных предметов не делает студентов более подготовленными к дальнейшей взрослой профессиональной и личной жизни.
Психологическое сопровождение учебновоспитательного процесса в университете, задумывалось нами, преимущественно именно в форме психологического консультирования. За прошедшие 15 лет консультационной практики (с 1998 г.) содержание деятельности и наше понимание ее сущности в вузе неизбежно расширилось.
Психологическое консультирование в нашем сегодняшнем понимании представляет собой не два четких направления, как мы представляли себе это еще несколько лет назад, а три.
Первое направление – собственно психологическое консультирование, представляющее собой, по сути, «информирование» клиента о способах поведения в новых для себя (или проблемных) ситуациях.
Второе направление – психологотерапевтическое консультирование, представляющее собой, по нашему мнению, личностно-ориентированную (по В. Ю. Меновщикову) [4] психотерапию.
А вот третье направление мы и иллюстрировали сейчас всеми предыдущими размышлениями и фактами. Это направление можно было бы в рабочем порядке назвать «профессионально-сопровождающее». Это консультации психолога, являющегося, кроме психологии, специалистом в той области профессональной деятельности, которую он обслуживает.
Поясним на собственном примере. Базовое образование автора данной статьи – историческое (исторический факультет Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарева.
«Подключение» к профессиональному изучению психологии случилось совершенно неожиданно в 1986 г., что всегда рассматривается нами как одно из самых главных событий в жизни, благодаря приглашению заведующего кафедрой психологии, тогда еще кандидата наук В. П. Андронова специализироваться под его руководством. С третьего курса обучения на историческом факультете началась специализация по психологии.
Признаемся откровенно, это было потрясением, так как очень хотелось после прослушанного у В. П. Андронова курса продолжить более глубокое изучение психологии. Но даже и не мечталось об этом, считая, что это совершенно невозможно.
Таким образом, психология «наложилась» на профессию преподавателя истории. И психологическая информация всегда была для нас «живой» и необходимой и при собственной, совершенно недолгой деятельности преподавателя истории и географии в школе (одновременно с обучением на V курсе исторического факультета).
Кроме того, по окончании аспирантуры, и после возвращения в вуз на должность преподавателя кафедры психологии, нам было предложено вновь вернуться в гимназию № 20 на должность заместителя директора по научной работе. И здесь, кроме всего прочего, пришлось вести обучающие семинары по развивающей системе Д. Б. Эльконина и В. В. Давыдова для педагогов гимназии. Все это сопровождалось личным ведением уроков по этой системе в специально созданном классе.
Вся эта деятельность осуществлялась благодаря энергичному руководству директора гимназии Ирины Тимофеевны Горбуновой, которой желаем доброго здоровья на заслуженном отдыхе.
Период руководства И. Т. Горбуновой гимназией № 20 г. Саранска, безусловно, особый период школьного образования в Республике Мордовия. Руководимая ею гимназия вошла в число 100 лучших в России.
Именно она впервые в республике ввела в 1990/91 учебном году, тогда еще в школе № 20 должность школьного психолога, которую по совместительству, нам и было предложено занять. Роль посредника в этом событии сыграла преподаватель исторического факультета, уважаемый ученый, преподающий и в настоящее время, Валентина Михайловна Сидоркина. Выражаем на страницах данной статьи несколько, безусловно, запоздалую благодарность уважаемому преподавателю за оказанное доверие.
Таким образом, еще до аспирантуры, в 1990–1992 гг., мы пытались применять теоретическую психологию в реальную педагогическую практику.
А уже в 1996 г., будучи «новоиспеченным» кандидатом наук, мы вернулись к преподаванию в университете и деятельности школьной психологической службы на совершенно ином уровне.
Профессиональное психологическое консультирование в тот период заключалось в том, чтобы лично проводить для педагогов открытые уроки, помогать учителям готовиться к конкурсам «Учитель года». Пришлось однажды даже сопровождать педагога гимназии № 12, победителя республиканского конкурса, в Москву, на всероссийский конкурс. Кроме того, приходилось участвовать в работе аттестационной комиссии школы по присвоению учителям более высокой квалификации.
В чемто, аналогичная деятельность осуществляется в настоящее время в Институте дополнительного образования нашего университета, где профессиональнопсихологическое консультирование представляет собой преподавание на курсах повышения квалификации преподавателей университета и кураторов. Происходит обмен информацией, практическим опытом преподавания и взаимодействия с коллегами.
То есть психолог не сидит, отделившись от всех в кабинете, и не учит жизни или «лечит душу». Он изучает специфику преподавания, что называется, «изнутри», в процессе собственного преподавания, хотя личный опыт, безусловно, ограничен.
Такое направление консультирования, по нашему мнению, довольно новое, оно еще не входит в официальный перечень видов психологического консультирования. Хотя есть в этом неофициальном перечне и психолого-педагогическое, и деловое.
Описанное нами третье направление психологического консультирования представляет собой некий синтез педагогического и делового. Оно основано на собственной личной и профессиональной рефлексии и объединяет фактологию нашей преподавательской и, собственно, традиционной психолого-консультативной и психологотерапевтической деятельности.
Все три направления психологического консультирования, осознанно выделенные нами к настоящему времени, можно, с нашей точки зрения, рассматривать как психологическое сопровождение образовательной деятельности вуза.
Напомним, что информирование, с нашей точки зрения, – это передача клиенту такой информации, которая помогает ему осознать природу своих затруднений, проанализировать свои психологические проблемы и принять собственные решения» [3].
Психологическое консультирование как информационную помощь (введем такое рабочее понятие), по нашему опыту, осуществлять гораздо сложнее, чем психотерапевтическую. Для последней важнейшими, являются качества личности, поэтому она довольно часто осуществляется людьми в их повседневной жизни.
А вот чтобы осуществлять полноценное психологическое информирование, необходима, по нашему мнению, кропотливая, тщательная профессионально-информационная подготовка психолога. Мы имеем в виду владение психологом особой профессиональной информацией.
На сегодняшний день, по нашему мнению, создана так называемая «психологическая мифология», т. е. понятийный научнопсихологический аппарат, без которого, действительно невозможно быть науке. Мы рассматриваем его как «буквы», которыми можно осуществлять «письмо», т. е. фиксирование уже не мифологии, а реальной психологической феноменологии (или фактологии) о законах подлинного функционирования, взаимоотношений и взаимодействия конкретного человека и сообществ в условиях конкретных культур.
Много чего изучается в человеке, но только недостаточно исследуется он сам как субъект культурного бытия, что, по нашему мнению, является его подлинной сущностью. В итоге психология не изучает сущности человека, чем, по нашему мнению, должна была бы заниматься. Во всяком случае отечественные учебники по психологии производят именно такое впечатление.
И это еще полдела. Гораздо более серьезная проблема состоит, с нашей точки зрения, в том, что даже общепринятой подлинно научно-психологической информации все меньше и меньше.
Мы разделяем точку зрения С. П. Капицы [2], что наука – это диагностика реальности. Наука для того и необходима, чтобы человечество действовало в соответствии с объективными законами мироздания, не уподобляясь «слону в посудной лавке».
Таким образом, подлинная наука есть только там, где происходит открытие объективно действующего в объективной материальной действительности «закона» независимо от желания человека признавать его или нет.
Законы Андре Ампера, Алессандро Вольта, Исаака Ньютона можно по самодурству не принимать, но они объективно действуют. И если человек их игнорирует, то это его проблемы, но электрический ток, говоря словами Владимира Тарасова, обладает одним удивительным свойством – не слушать доводы. Он просто «бьет» или даже «убивает», если человек игнорирует его действие. Закон отменить невозможно. Тогда это закон. Тогда это наука.
Открытые законы или закономерности, зафиксированные в понятии, и есть подлинная наука, которой, увы, в научной психологии все меньше и меньше.
Вызывает по меньшей мере недоумение, когда так называемый психолог, не занимающийся никакой практикой, в том числе экспериментальной, тем не менее, публикует какое-то, порой даже достаточно большое, количество так называемых научных «трудов» или «статей».
В лучшем случае это может быть философией, размышлением, теоретическим анализом. Но все это выглядит, возможно, и достаточно интересно, но часто довольно подозрительно с точки зрения научности и достоверности. Довольно часто можно встретить и откровенный плагиат.
Именно поэтому одновременно с консультативной практикой мы все время занимаемся тем, что пытаемся отделять «зерна от плевел». То есть ищем буквально по крупицам подлинно научную информацию, которая является достоверной наукой, по- лезной и даже необходимой для настоящего психологического образования человека.
Классическим примером психологического научного открытия является для нас «эффект Блюмы Зейгарник». Подмеченная жизненная ситуация привела ее к интересной гипотезе, а, затем и открытию закономерности о соотношении в памяти завершенного и незавершенного действия. Ученые, как известно, не создают законов, они их «открывают».
Информация, таким образом, должна быть не только достоверна и необходима, но еще и применима конкретным человеком в его жизни и деятельности. И такой информации крайне немного.
Наш опыт показывает: нет ничего лучше первоисточника, т. е. работ «первооткрывателя». Труды учеников, как правило, можно не изучать. Они часто создают лишь лишний информационный шум, так как, к сожалению, в научной среде стало общепринятым местом: если ты ученый, то у тебя должно быть введенное в обиход науки понятие.
Однако ввести понятие не означает «открыть» закон. В таком случае в этом понятии с точки зрения научной объективности и практической необходимости и полезности нет никакой необходимости. В результате мы часто имеем подмену научной деятельности личными амбициями некого псевдо ученого.
Таким образом, осуществлять консультирование как подлинное информирование крайне непросто. Фактически это должно быть подлинным психологическим просвещением, которое, по нашему мнению, должно заключаться в вооружении человека конкретной, живой, действенной информацией, непосредственно применимой на практике. Точнее говоря, конкретными правильными действиями в конкретных ситуациях. Общие фразы по типу «нужно полюбить своего ребенка» здесь неуместны.
К сожалению, учебники по различным отраслям психологии содержат как раз не информацию, а мнения разных авторов по тому или иному вопросу или проблеме.
Изложен так называемый научнотеоретический обзор, а нужны технологии, алгоритмы действий, по которым можно было бы действительно научиться правильно действовать, изучать себя и окружающих.
И именно обыденные и житейские психологические фактологические наблюдения, по нашему мнению, являются очень хорошей информационной базой для подлинно научного анализа и обобщения, ибо в них и «проявляются» подлинные законы и закономерности сущностного человеческого бытия.
Несколько слов о психотерапии в консультировании. Мы называем это психологотерапевтическим консультированием, чтобы провести различие с консультированием как информированием. По существу, при такой работе с клиентом, осуществляется, названная нами, ЭМУ – коррекция. То есть коррекция эмоций, мотивации, установок. Либо что-то одно, либо последовательно – один психический феномен за другим. Мы пришли к выводу, что это – то немногое, но реальное и важное, что можно пытаться осуществлять в практике деятельности нашей психологической службы.
Необходимость такой деятельности возникает в том случае, когда клиент находится в так называемом «реактивном» состоянии, т. е., в состоянии реакции (отреагирования) на некое событие, ситуацию, явление – конфликт, ссору, утрату, например, близкого человека.
Такие случаи нередки, и практикующему психологу необходимы соответствующие навыки работы. Крайне важными здесь становятся эмпатические качества психолога, т. е. его природная способность сопереживать и сочувствовать.
Второе, крайне полезным и важным оказывается собственный жизненный опыт психолога-консультанта. Мы имеем в виду, что психолог мог проходить через названные выше ситуации.
Это практически бесценный опыт, поскольку психолог имеет пусть собственное субъективное, но реальное представление о том, что испытывает человек в таких ситуациях и становится способным адекватно отражать состояние человека, точно реагировать, а значит, осознавать (рефлек- сировать) на механизм присоединения к клиенту.
Иными словами, при наличии собственного жизненного опыта психолог оказывается в состоянии гораздо лучше осознавать свои возможности в отношении работы с данным клиентом. Понимать, какую конкретно форму эмпатии он может проявлять – сопереживать или сочувствовать. Это, по нашему мнению, решающее условие техники такой помощи.
В завершение приведем один пример собственной теоретической рефлексии, используемой, как в практике преподавания, так и в практике психолого-терапевтического консультирования.
Мы несколько иначе, чем это принято в официальной психологической теории, понимаем сущность феноменов сопереживания и сочувствия, которые, как известно, составляют сущность эмпатии.
Мы исходим из того, что есть, например, также «высшее чувство», как любовь. Те, кто испытал безответную любовь, могут при рассказе об этом кем-либо другим «сочувствовать». То есть понимать, что чувствует тот другой, вспоминая при этом свои пережитые чувства. Чувствую то же самое, что и другой, – «со-чувствую».
Если же чувства собеседника нам неизвестны, то у нас могут возникать собственные переживания по поводу его чувств, но они могут быть и не синхронными, мы не можем выразить в словах то, что испытывает другой человек. Мы можем выразить в словах лишь то, что переживаем, видя переживания другого человека. И мы можем искренне сказать об этом другому человеку. Это будет честно, и психологический контакт будет установлен, что является решающим условием эффективной психологической помощи.
В заключение благодарю уважаемого читателя за проявленное внимание к данному материалу, с извинением за определенную тавтологию в изложении, а также с надеждой на его возможную пользу и понимание позиции автора.
Список литературы К проблеме психологического сопровождения образовательной деятельности вуза
- Гиппенрейтер Ю. Б. Введение в общую психологию: курс лекций: учеб. пособие для вузов/Ю. Б. Гиппенрейтер. -2-е изд. -М.: Астрель, 2008. -352 с
- Капица С. П. Синергетика и прогнозы будущего/С. П. Капица, С. П. Курдюмов, Г. Г. Малинецкий. -М.: Едиториал УРСС, 2003. -288 с
- Мамонтова С. Н. Прикладная юридическая психология/С. Н. Мамонтова. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. -508 с
- Меновщиков В. Ю. Введение в психологическое консультирование/В. Ю. Меновщиков. -2-е изд., стер. -М.: Смысл, 2000. -109 с
- Ольшанский Д. В. Основы политической психологии/Д. В. Ольшанский. -Екатеринбург: Деловая книга, 2001. -496 с
- Серкин В. Хохот Шамана/В. Серкин. -Киев: София, 2007. -201 с