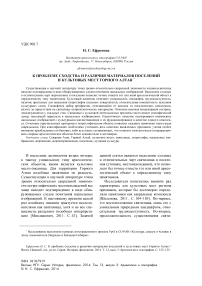К проблеме сходства и различия материалов поселений и культовых мест Горного Алтая
Автор: Ефремова Наталья Сергеевна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Культура, социум и человек в эпоху палеометалла (Урал и Западная Сибирь)
Статья в выпуске: 3 т.13, 2014 года.
Бесплатный доступ
Существующая в научной литературе точка зрения относительно сакральной значимости писаниц-святилищ находит подтверждение в виде обнаруживаемых следов почитания наскальных изображений. Выделение сходных и отличительных черт жертвенника и поселения позволит точнее отнести тот или иной археологический объект к определенному типу памятников. Культовый памятник отличают уникальность ландшафта, труднодоступность, наличие пригодных для нанесения петроглифов скальных поверхностей, относительная компактность залегания культурных слоев. Специфичен набор артефактов, отличающийся от находок из поселенческих комплексов, вплоть до присутствия на святилище антропологических материалов. Отмечена высокая концентрация кострищ, локализующихся у скальных стен. Связанные с культовой деятельностью предметы часто имеют специфический декор, находящий параллели в наскальных изображениях. Идентичность сюжетов подчеркивают взаимосвязь наскальных изображений с культурными напластованиями и их функционирование в качестве единого комплекса. Сочетание перечисленных критериев в петроглифическом объекте позволяет называть памятники такого рода сакральными. При классификации необходимо учитывать весь комплекс выявленных признаков, уделяя особое внимание преобладанию его бытовых либо культовых составляющих, что позволит типологически интерпретировать спорные археологические объекты более доказательно и достоверно.
Северная азия, горный алтай, культовое место, святилище, петроглифы, наскальные изображения, жертвенник, жертвоприношение, поселение, духовная культура
Короткий адрес: https://sciup.org/147219031
IDR: 147219031 | УДК: 903.7
Текст научной статьи К проблеме сходства и различия материалов поселений и культовых мест Горного Алтая
В последние десятилетия возрос интерес к такому уникальному типу археологических объектов, каким является культовое место-писаница. Для территории Горного Алтая подобные памятники не редкость. Существующая в научной литературе точка зрения относительно сакральной значимости петроглифических местонахождений все чаще находит подтверждение в виде обнаруживаемых следов почитания наскальных изображений. К настоящему времени целый ряд алтайских писаниц трактуется исследователями как святилища, хотя и не все специалисты разделяют подобную интерпретацию [Миклашевич, 2011. С. 43]. Задачей данной статьи является выделение сходных и отличительных черт святилища и поселения (стоянки, местонахождения), что позволило бы точнее отнести тот или иной археологический объект к определенному типу памятников.
Исследователи попытались выявить ряд характерных для культовых мест региона признаков, которые бы достоверно определяли памятники как сакральные комплексы [Шелепова, 2011. С. 104–105]. Во-первых, это местоположение святилища, связь его с уникальным природным ландшафтом, относительная труднодоступность. Во-вторых, продолжительность существования святи-
∗ Исследование выполнено в рамках интеграционного проекта УрО и СО РАН «Культура, социум и человек в эпоху палеометалла (Зауралье и Западная Сибирь)».
Ефремова Н. С. К проблеме сходства и различия материалов поселений и куль-товых мест Горного Алтая // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2014. Т. 13, вып. 3: Археология и этнография. С. 125–135.
ISSN 1818-7919
Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2014. Том 13, выпуск 3: Археология и этнография
лища, присутствие в комплексе разнотипных ритуальных объектов (камней, выкладок, петроглифов и др.). В-третьих, наличие скальных поверхностей, пригодных для нанесения изображений. Некоторые специалисты не исключают возможность наличия на культовых местах сакральных астрономических разметок. В число признаков входит также обособление «центра» святилища, его алтарной части. И, наконец, наличие следов культовых практик (жертвоприношений, культурного слоя, прокалов-очагов и т. д.).
Перечисленные признаки в том или ином сочетании присутствуют на культовых комплексах Горного Алтая. Например, Бийкен-ское святилище раннего железного века (Чемальский район Республики Алтай) расположено на территории курганного могильника. Признаки священного культового места здесь – расположение на берегу реки в замкнутом пространстве у подножия выделяющихся формой гор (на одной из скал выбиты петроглифы), наличие валунных россыпей и пещеры, близость шумных водных порогов. В сквозной пещере есть культурный слой. Большинство наскальных изображений зооморфные, но есть и силуэты людей [Тишкин, Дашковский, 2003. С. 240– 242].
Святилище сходного облика расположено в Чемальском районе Республики Алтай в составе комплекса памятников Кызык-Телань-1. Оно также представляет собой камень с петроглифами, рядом с которым зафиксирован культурный слой с остатками кострищ, фрагментами керамики и костями животных [Суразаков, Тишкин, 2003. С. 192]. Еще один ритуальный центр отмечен в урочище Туру-Алты на берегу р. Бар-Бургазы [Марсадолов, 2003. С. 297–298] в Усть-Коксинском районе Республики Алтай – писаница-святилище Кучерла-1 (грот Куй-лю), представляющая собой первый из полностью изученных на данной территории памятников этого типа [Молодин, Ефремова, 2010]. Подобные объекты не редкость и в других регионах.
На Урале находится первый из выявленных памятников такого рода – жертвенное место под Писаным камнем, исследованное О. Н. Бадером. Святилище посещалось на протяжении 3,5 тыс. лет. В числе приношений, насчитывающих более 2,5 тыс. предметов, – кости животных, каменные орудия, наконечники стрел; каменные, костяные, бронзовые и железные поделки, керамика. В культурном слое также обозначены прокаленные участки, зольные примеси и отмеченный камнями очаг [Бадер, 1954; Буров, 1992. С. 24]. Так, жертвенник под петроглифами отмечен близ Свердловска, на Еловом мысу. Под скалой с изображениями птиц, отнесенными к III тыс. до н. э., найдены культурные остатки, в том числе керамический материал, датирующийся эпохами неолита, ранней бронзы и раннего железного века [Петрин, 1985]. Первой половиной II тыс. до н. э. датированы рисунки Арасла-новской писаницы на р. Уфа. Здесь, помимо керамического инвентаря, отмечены наконечник стрелы, каменный пест, кости косули и лошади, обломок речной раковины, кремневые отщепы [Петрин, 1977].
В последние десятилетия по берегам Ангары (Красноярский край) на скальных выходах обнаружены и исследованы местонахождения петроглифов, часть из которых входит в состав жертвенных комплексов (писаницы Рыбное, Выдумский Бык, Каменка, каменный Тасеевский идол и др.). Шурфовка площадок на скальных утесах обнаружила наличие культовых материалов: наконечники стрел, каменный инвентарь, металлические изделия, керамика и пр. [Дроздов и др., 1996. С. 95; Заика и др., 2003]. Ближайшая аналогия с рассматриваемыми нами комплексами обнаруживается в Южной Туве (Эрзинский район, междуречье Тес-Хема и Нарын-Гола). На скале Ямалык найдены два скопления выполненных краской изображений животных (собака, копытные, одно из них – пораженное орудием). Около скалы вокруг изображений обнаружены многочисленные отщепы кремня и обломки кремневых орудий, в культурном слое мощностью до одного метра (исследовано 16 кв. м) отмечены прокаленные пятна, керамика скифского и гуннского времени, кости животных, наконечник стрелы из кремня. У материка имел место материал эпохи бронзы и неолита. Есть подобные жертвенные комплексы и на Байкале. В бухте Ая, например, существует исследованная в разное время Б. Э. Петри, С. П. Балдаевым и М. Н. Хангаловым писаница, скала при этом считается местом жительства духа-хозяина горы. Большой камень под рисунками служит жертвенником для воскурения богородской травы и пихтовой коры во время тайлаганов. Приношениями служили медные и серебряные деньги, в 1968 г. там же видели монеты советской чеканки, что, несомненно, свидетельствовало о продолжавшемся почитании святилища [Окладников, 1971. С. 34, 35]. Перечислять выявленные к настоящему моменту объекты данного типа можно достаточно долго.
Мы намеренно рассматриваем памятники, расположенные в примерно одинаковых природно-ландшафтных условиях. Как неоднократно отмечали исследователи, идентичная среда обитания не только обуславливает сходство в преобладающем хозяйственном укладе, но и порождает аналогичные идеологические представления, в частности, обнаруживает общие черты и в эпосе, и в верованиях древних коллективов. Однако если ландшафтное своеобразие Приуралья и Приангарья практически не оставляет сомнений в интерпретации петроглифических комплексов с культурным слоем как сакральных объектов, то в отношении памятников Горного Алтая единой точки зрения пока нет. Но в каждом случае налицо отмеченные признаки святилища – расположение в уникальной живописной природной зоне, относительная труднодос-тупность, наличие плоскостей для нанесения петроглифов, как правило, компактное, концентрированное залегание культурных слоев перед скальной стенкой.
В скотоводческих районах Горного Алтая все обнаруженные поселения разных эпох располагались, как правило, в логах, иногда – в расширениях долин у подошвы горы, причем исследователями отмечалась привязанность древнего населения к одним и тем же удобным местам (например, Партизанская Катушка, Узнезя-1, Малый Дуган и др.) [Шульга, 2011. С. 266; Степанова, 2011. С. 235; 2012. С. 278]. Относительно тяготения поселений к подножиям скал и насыщенности здесь культурного слоя артефактами исследователями отмечены особенности планиграфической локализации археологического материала в зависимости от типа памятника. Например, на афанасьевском поселении Узнезя-1 количество находок у скальной стенки уменьшилось в несколько раз по сравнению с концентрацией артефактов в центральной части поселения [Степанова, 2012. С. 278], тогда как на святилищах-жертвенниках максимальное количество находок отмечается именно в непосредственной близости от скальной поверхности с рисунками. Кроме того, по данным П. И. Шульги, культурные слои большинства поселений в остепненной скотоводческой зоне Горного Алтая сравнительно тонки и бедны керамическим материалом [Шульга, 2011. С. 266; Степанова, 2011. С. 235]. Святилища-жертвенники же во всех рассматриваемых регионах обнаруживали насыщенную концентрацию керамического и остеологического материала, а также специфических находок в культурных слоях на сравнительно небольшой площади.
Еще одним признаком, выделенным в свое время А. Л. Заикой для ангарских святилищ, являются наличие следов пирогенного воздействия на артефакты и высокая концентрация кострищ на памятниках [Заика и др., 2003]. На большинстве святилищ-жертвенников отмечены прокаленные участки почвы. Так, на многослойном Кучер-линском культовом комплексе очаги открытого и закрытого (с каменной обкладкой) типа фиксировались в каждом культурном слое – афанасьевском, раннего железного века, средневековом. Все они располагались в непосредственной близости от скальной стенки с рисунками. На поселениях же, по мнению П. И. Шульги, в раннем железном веке и в Средневековье очаги, как правило, находились в жилищах [2011. С. 266].
Этнографические данные свидетельствуют, что правила поведения близ святилищ и кладбищ жестко регламентировались, существовало множество всевозможных запретов. Подобные «закрытые зоны», помимо культово-ритуальной роли, имели еще и предназначение своеобразного заповедника, где промысловые животные могли размножаться и расселяться на близлежащие территории [Косарев, 2003. С. 37]. Возможно, именно с этим связано отмеченное исследователями региона практически повсеместное отсутствие остатков каких-либо архитектурных сооружений на культовых местах. В отличие от поселений, на святилищах почти не фиксируется следов наземных конструкций, землянок, полуземлянок.
Однако у скал с изображениями животных могли устраивать загородки-загоны для скота, как это было зафиксировано на святилище Кучерла-1 для этнографического времени существования жертвенника. Подобная ситуация отмечена и на другом алтайском петроглифическом памятнике – Сырнах-гозы (Онгудайский район Респуб- лики Алтай), где под скальным останцем с рисунками локализованы гумусированная почва и остатки каменных стен из плит, по мнению Г. В. Кубарева, представляющих собой разрушенные загоны для скота. В целом, подобные каменные сооружения неоднократно встречались у других комплексов с петроглифами на территории Российского и Монгольского Алтая [2012. С. 196]. В сюжетах наскальных рисунков могли фигурировать и загородки другого рода – связанные, в частности, с охотничьим промыслом. Так, на древних уральских писаницах изображения промысловых животных, например лосей, часто сочетались с изображением загонных оград [Косарев, 2003. С. 59].
Важно обратить внимание на состав остеологического материала святилищ и поселений. Отмечаются особенности видового состава животных, костные остатки которых чаще всего обнаруживаются на памятниках обоих типов. Так, например, на поселении III тыс. до н. э. Новоильинка-3 в Алтайском крае 94 % определимого остеологического материала принадлежало лошади. На близком данному памятнику хронологически и географически поселении Ботай в Северном Казахстане, где собрано свыше 300 тыс. костных остатков, 99,9 % костей также принадлежат лошади [Васильев и др., 2011. С. 147–148]. На территории Горного Алтая на поселениях раннего железного века преобладают кости овцы, затем лошади и крупного рогатого скота. Присутствуют также остеологические остатки промысловых животных: косули, дзерена, лося, оленя, лисы [Шульга, 1990. С. 85]. Кости лошади преобладают в фаунистических остатках слоев Средневековья и раннего железа поселения Тыткескень-3 [Кунгуров, 1994. С. 47]. На культовом месте раннего железного века Каменка на Нижней Ангаре почти 50 % костных остатков принадлежит медведю [Заика и др., 2003. С. 350].
Что же касается памятников Алтая, то наиболее полный анализ остеологического материала мы имеем по Кучерлинскому святилищу. В целом, кости домашних животных здесь незначительно преобладают над промысловыми видами. В порядке убывания это овцы-козы, лошадь, корова и некоторые другие. Среди остатков охотничье-промысловых видов наибольшее количество костных остатков принадлежит маралу (67,2 %) и косуле (23,6 %); имеются также кости сибирского горного козла, бурого медведя. Палеонтологи отмечали специфичность набора костных остатков (черепа, кости конечностей, многочисленные изолированные зубы крупных млекопитающих), что, возможно, было обусловлено спецификой ритуальных действий. Кроме того, отмечено и совпадение фаунистического набора из слоев жертвенника с видовым составом животных, изображенных на скале. Подчеркивалось также обилие обломков черепов, рогов и зубов животных, астрагалов, в том числе и орнаментированных. По мнению С. К. Васильева, подобное соотношение также подчеркивает не поселенческий характер памятника – на поселениях подобные остатки встречаются в процентном соотношении ко всему комплексу костей в гораздо меньшем количестве [Молодин и др., 2008]. Так, в пещерных святилищах Урала доля остеологических остатков домашних животных мизерна (менее процента), доля же промысловых животных достаточно высока (медведь – до 25 %, лось – 13 %, белка, заяц – 8 % и т. д.) [Косинцев, Чаиркин, 2000. С. 170–173].
Керамический материал, обнаруживаемый на святилищах, также имеет свои особенности. Рядом исследователей отмечалось отсутствие археологически целых форм посуды, в связи с чем представляется убедительной точка зрения о возможном единовременном использовании сосудов во время культовых действий с последующим разбиванием участвовавшей в священнодействии керамики, тогда как на поселении процент археологически целых сосудов достаточно высок. Появление специальных сосудов для жертвоприношений, по мнению исследователей, имеет давнюю традицию, корнями уходящую в каменный век. В любом сибирском культовом ритуале не обходится без культового сосуда. Более того, как полагают исследователи, вся посуда, участвующая в ритуальном акте, «имеет в зашифрованном орнаменте знак принадлежности тому или иному ритуалу» [Жеребина, 2000. С. 24, 37].
Необходимо подробнее остановиться и на специфическом характере обнаруживаемых на культовых местах находок. В состав археологических коллекций, полученных как на святилищах, так и на поселениях, входит остеологический и керамический материал, а также артефакты, выполненные из кости, рога, камня и металла. Например, на раннесредневековом поселении Горный
Елбан в массиве обнаруженного материала присутствуют наконечники стрел, фрагменты каменных зернотерок, абразивы, более двадцати орнаментированных астрагалов косули и овцы [Абдулганеев, Степанова, 2002. С. 221]. Однако при семантической интерпретации первостепенное значение приобретает контекст обнаружения находки. Группы артефактов, позволяющих нам отнести святилище к категории объектов, отражающих духовную культуру этноса, включают в себя, прежде всего, наконечники стрел и предметы, на которые нанесены какие-либо изображения.
Отношение к стреле как к магическому, культовому предмету, распространено практически у всех сибирских народов и выходит далеко за пределы региона. Находки наконечников стрел – не редкость для святилищ, явление имеет параллели далеко за пределами Алтая в широком хронологическом диапазоне. В Приуралье известен целый ряд древних святилищ, в том числе и у скал с петроглифами, где в археологических материалах присутствуют всевозможные предметы охотничьего снаряжения, включающие и древние наконечники стрел. Еще академик И. Г. Георги в 1776 г. упоминал о находках местными жителями наконечников стрел в пещере Камень Дыроватый. Сходный материал получен при исследовании жертвенного места на берегу р. Колва у Камня Светика, жертвенного места под Писаным камнем на р. Вишера, Чаньвенской, Канинской, Шайтанской, Унинской пещер и на многих других культовых объектах Приуралья [Канивец, 1964. С. 17, 19–26, 30–32, 46; Прокошев, 1935. С. 181, 183; Генинг, 1951. С. 197; Мурыгин, 2002. С. 156; Чаир-кин, 2002, С. 159]. Обнаружение наконечников стрел на святилищах напрямую связано с производственными культами, которые, трансформируясь, доживают до современности – существование их неоднократно подтверждено этнографическими данными.
Отдельную группу находок, позволяющую отнести памятники к категории святилищ, составляют различные предметы с изображениями. Керамика с антропо- и зооморфными рисунками в ряде культур распространена достаточно широко в качестве бытовой посуды, однако для Сибирского региона керамические сосуды с подобным декором являются, скорее, исключением и интерпретируются именно как культовая посуда. Это фрагменты сосудов с Кучерлин-ского святилища, с Елунинского культового места, с жертвенного места у Шишкинских писаниц и многие другие. Сюжеты декора могли быть связаны с различными сферами культовой жизни общества – поминальной, репродуктивной, производственной, или играть роль оберегов. Скульптурные изображения животных на краях сосудов, подобных елунинским, также могли являться апотропеями для содержимого посуды [Мо-лодин, Ефремова, 2010. Рис. 88, 1; Кирюшин, Шамшин, 1993; Окладников, 1971].
Орнамент, в том числе и сюжетный, обнаруживали и другие группы артефактов, находимых на святилищах – астрагалы, пластины из различных материалов, интерпретируемые как символическое изображение божества, обереги, атрибуты для гадания, жертвоприношения и т. д. При обнаружении подобных изображений на поселениях, в отрыве от сакрального контекста, интерпретация, как правило, включает и возможное культовое назначение артефакта. Например, с магическими причинами связывают исследователи помещение стилизованных фигур оленей в загородки, отраженное на костяных предметах, фрагменты которых обнаружены на поселении Маяк II на Кольском полуострове [Гурина, 1997. С. 106. Рис. 53]. Роговая пластина с изображениями лося и птицы с Боршевского городища рассматривается как деталь шаманского нагрудного украшения [Крис, Чернай, 1979; Крис, 1995]. Рельефно выполненная фигура лося была обнаружена на поселении Дубро-винский Борок-3 в Новосибирском Приобье. Наряду с трактовкой в качестве принадлежности для бронзолитейного производства, здесь также упоминается возможное магическое назначение изделия [Троицкая, 1979. С. 27–28, 62].
Повторение сюжетов петроглифов на артефактах из слоев жертвенников подчеркивает, прежде всего, взаимосвязь наскальных изображений с культурными напластованиями и их функционирование в качестве единого комплекса. В материалах поселений следы подобной взаимосвязи, обуславливающей локализацию жилого пространства именно у скальных выходов, отсутствуют.
И, наконец, еще одним маркирующим святилища признаком является присутствие в культурном слое последних антропологических материалов – частей скелета челове- ка, отдельных захоронений, единичных костей. Случаи обнаружения костей человека у скал с петроглифами в большом количестве имеют место в Забайкалье, Приамурье и Якутии. От собственно погребений такие объекты отличает фрагментарность костяков, специфическое преднамеренное расчленение. Примером из Уральского региона может быть жертвенное место Голый Камень на вершине горы, где обнаружены обожженные кости человека в комплексе с остеологическими остатками диких и домашних животных, керамикой, глиняным украшением и бронзовой стрелой [Бадер, 1953. С. 337]. Исследователями предлагается еще один вариант интерпретации, не противоречащий, а, скорее, подтверждающий доказательство сакральности рассматриваемых объектов. В процессе расчистки скальных осыпей одной из ниш Шалаболинской писаницы в Красноярском крае обнаружено погребение человека, интерпретируемое как ритуальное жертвоприношение на территории древнего культового комплекса. Погребение относится к середине I тыс. н. э.: на стены ниши нанесены средневековые рисунки, стратиграфически костяк залегал на этом уровне, выше основания композиции эпохи раннего железа [Заика и др., 2004. С. 260].
В научной литературе существует точка зрения, что на самих поселениях местом отправления культов могли быть зольники. Так, на поселении Рублево VI эпохи поздней бронзы в слое зольника обнаружены бронзовые предметы, отличный от поселенческого керамический комплекс и человеческие кости, что и позволило исследователям связать данный тип памятника с погребально-поминальной обрядностью [Папин, 2002. С. 183].
Таким образом, к признакам, маркирующим объект как святилище, исследователи относят следующие отличительные черты памятника:
-
• характеристика местоположения (живописность, труднодоступность);
-
• особенности самого природноландшафтного объекта (неординарность формы, уникальность);
-
• соседство петроглифического местонахождения;
-
• возможные следы ритуальных действий (жертвоприношений, обрядов производственной магии и пр.);
-
• следы использования огня, концентрация очагов на сравнительно небольшой площади;
-
• фрагментарность артефактов, следы преднамеренной порчи предметов;
-
• специфичность набора вещевого комплекса (наконечники стрел, культовые предметы и пр.);
-
• высокий процент краниальных частей фаунистических остатков;
-
• следы человеческих жертвоприношений.
Сочетание всех или части перечисленных здесь критериев в археологическом петроглифическом комплексе позволяет называть памятники такого рода не поселенческими, а сакральными объектами. При их классификации необходимо учитывать весь комплекс выявленных признаков, уделяя особое внимание преобладанию его бытовых либо культовых составляющих, что позволит типологически интерпретировать археологические объекты более доказательно и достоверно.
Список литературы К проблеме сходства и различия материалов поселений и культовых мест Горного Алтая
- Абдулганеев М. Т., Степанова Н. Ф. Раскопки у пос. Горный на Северном Алтае//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2002. Т. 8. С. 220-223.
- Бадер О. Н. Археологические памятники Тагильского края//Учен. зап. Молотовского университета. 1953. Т. 8, вып. 2. С. 311.
- Бадер О. Н. Жертвенное место под Писаным камнем на р. Вишере//СА. 1954. Вып. 21. С. 241-258.
- Буров Г. М. Искусство крайнего северо-востока Европы в эпоху неолита -раннего металла и его семантика//Наскальные рисунки Евразии. Новосибирск: Наука, 1992. С. 14-28.
- Васильев С. К., Кирюшин К. Ю., Ситников С. М., Семибратов В. П. Фаунистические остатки из поселения Новоильинка-3 (по материалам раскопок 2010 года)//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2011. Т. 17. С. 147-151.
- Генинг В. Ф. К вопросу о северных границах распространения ананьинской культуры//КСИИМК. 1951. № 36. С. 196-199.
- Гурина Н. Н. История культуры древнего населения Кольского полуострова. СПб.: Центр «Петербург. Востоковедение», 1997. 233 с.
- Дроздов Н. И., Заика А. Л., Макулов В. И. Древнее искусство Нижнего Приангарья (итоги пятилетних исследований)//Новейшие археологические и этнографические открытия в Сибири. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1996. С. 91-95.
- Жеребина Т. В. Система жертвоприношений у шаманов Северной Азии (к проблеме типологии)//Жертвоприношения: ритуал в культуре и искусстве от древности до наших дней. М.: Языки рус. культуры, 2000. С. 23-41.
- Заика А. Л., Оводов Н. Д., Мартынович Н. В., Орлова Л. А. Следы медвежьего культа на Нижней Ангаре (предварительное сообщение)//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2003. Т. 9, ч. 1. С. 347-351.
- Заика А. Л., Дроздов Н. И., Березовский А. П., Ключников Т. А., Журавков С. П. Шалаболинские петроглифы (итоги исследований 2004 г.)//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2004. Т. 10. Ч. 1. С. 259-260.
- Канивец В. И. Канинская пещера. М.: Наука, 1964. 136 с. Косарев М. Ф. Основы языческого миропонимания. М.: Ладога100, 2003. 352 с.
- Кирюшин Ю. Ф., Шамшин А. Б. Елунинское культовое место//Культура народов евразийских степей в древности. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 1993. С. 161-180.
- Косинцев П. А., Чаиркин С. Е. Культовые пещеры Урала//Святилища: археология ритуала и вопросы семантики. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2000. С. 166-175.
- Крис Х. И. Изобразительное творчество обитателей дьяковских городищ//РА. 1995. № 4. С. 56-67.
- Крис Х. И., Чернай И. Л. Раскопки Боршевского отряда Московской экспедиции//АО 1978 г. М., 1979. С. 69-70.
- Кубарев Г. В. Петроглифы Сырнах-гозы//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2012. Т. 18. С. 195-200.
- Кунгуров А. Л. Верхние культурные слои поселения Тыткескень-3//Археология Горного Алтая. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 1994. С. 43-58.
- Марсадолов Л. С. Ритуальный центр в урочище Туру-Алты на Алтае//Исторический опыт хозяйственного и культурного освоения Западной Сибири. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2003. Кн. 1. С. 293-299.
- Миклашевич Е. А. К вопросу о времени функционирования «святилища» Бичикту-Бом//Древние и современные культовые места Алтая. Барнаул: ООО «Печатная компания АРКТИКА», 2011. С. 35-44.
- Молодин В. И., Васильев С. К., Оводов Н. Д. Териофауна позднего голоцена Центрального Алтая по материалам ритуального памятника Кучерла-1 (Куйлю)//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2008. Т. 14. С. 196-201.
- Молодин В. И., Ефремова Н. С. Грот Куйлю -культовый комплекс на реке Кучерле (Горный Алтай). Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2010. 264 с.
- Мурыгин А. М. Средневековый хронологический горизонт древних пещерных святилищ Печорского Приуралья//Северный археологический конгресс. Тезисы докладов. Ханты-Мансийск; Екатеринбург: Академкнига, 2002. С. 156-157.
- Окладников А. П. Жертвенное место глазковцев на р. Лене//ИВСОРГО. 1971. Т. 68. С. 197-201.
- Папин Д. В. Особенности функционирования зольника эпохи поздней бронзы поселения Рублево VI//Северная Евразия в эпоху бронзы: пространство, время, культура. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2002. С. 181-183.
- Петрин В. Т. К вопросу о дате Араслановской писаницы на р. Уфе//СА. 1977. № 2. С. 246-249.
- Петрин В. Т. Писаница из окрестностей Свердловска//СА. 1985. № 3. С. 119-123.
- Прокошев Н. А. Район р. Чусовой//ИГАИМК. М.; Л., 1935. Вып. 109. С. 176-187.
- Степанова Н. Ф. Афанасьевское поселение Малый Дуган: материалы к своду памятников афанасьевской культуры Горного Алтая//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2011. Т. 17. С. 233-238.
- Степанова Н. Ф. Афанасьевское поселение Узнезя-1 в Горном Алтае//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2012. Т. 18. С. 278-282.
- Суразаков А. С., Тишкин А. А. Памятник Кызык-Телань-1 в Горном Алтае и его планиграфические особенности//Исторический опыт хозяйственного и культурного освоения Западной Сибири. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2003. Кн. 1. С. 191-198.
- Тишкин А. А., Дашковский П. К. Социальная структура и система мировоззрений населения Алтая скифской эпохи. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2003. 430 с.
- Троицкая Т. Н. Кулайская культура в Новосибирском Приобье. Новосибирск: Наука, 1979. 124 с.
- Чаиркин С. Е. Культовые памятники на скальных выступах и в пещерах восточного склона Северного Урала//Северный археологический конгресс. Тезисы докладов. Ханты-Мансийск; Екатеринбург: Академкнига, 2002. С. 158-162.
- Шелепова Е. В. Теоретические аспекты изучения памятников культовой деятельности Алтая//Древние и современные культовые места Алтая. Барнаул: ООО «Печатная компания АРКТИКА», 2011. С. 100-110.
- Шульга П. И. Исследование поселений раннего железного века в Горном Алтае//Охрана и использование археологических памятников Алтая. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 1990. С. 83-87.
- Шульга П. И. О топографии поселений древних скотоводов в горно-степных ландшафтах//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2011. Т. 17. С. 265-268.