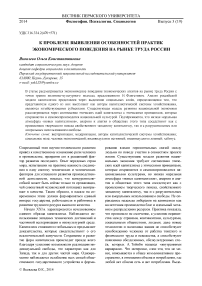К проблеме выявления особенностей практик экономического поведения на рынке труда России
Автор: Яковлева Ольга Константиновна
Журнал: Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология @fsf-vestnik
Рубрика: Социология
Статья в выпуске: 3 (19), 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается экономическое поведение экономических агентов на рынке труда России с точки зрения политико-культурного подхода, предложенного Н. Флигстином. Анализ российской модели капитализма представлен через выделение социальных слоев, определяющееся тем, что представители одного из них выступают как акторы капиталистической системы хозяйствования, являются хозяйствующими субъектами. Существующая модель развития национальной экономики рассматривается через соотнесение этических идей капитализма с этическими принципами, которые сохраняются и самовоспроизводятся национальной культурой. Подчёркивается, что низкая моральная атмосфера «новых капитализмов», анархия и апатия в обществах этого типа соседствуют как с проявлением творческого поиска свойственного западному капитализму, так и с разрушительным или аморальным использованием свободы.
Вестернизация, модернизация, акторы капиталистической системы хозяйствования, социальное поле, человек экономический, индивидуализм истинный, индивидуализм ложный, хабитус
Короткий адрес: https://sciup.org/147202985
IDR: 147202985 | УДК: 316.334.2(470+571)
Текст научной статьи К проблеме выявления особенностей практик экономического поведения на рынке труда России
Современный этап научно-технического развития привёл к качественному изменению роли человека в производстве, превратив его в решающий фактор развития последнего. Опыт передовых стран мира, испытавших на практике важность соединения в одну систему технических и человеческих факторов для успешного развития производственной деятельности, показал, что конкурентоспособной может быть сейчас только та организация, чей совокупный человеческий потенциал выигрывает в качестве. Таким образом, в идеале на современном этапе должен формироваться единый интерес государства, работодателя и работника в развитии трудового ресурса высокого качества.
Начало XXI в. характеризуется исчезновением единого образца капитализма. Наблюдается использование западных технических достижений и частичной вестернизации в инокультурной среде. Капитализм становится глобальным и предъявляет доказательства, которые свидетельствуют о его исключительной живучести. Сохранение и развитие форм капитализма происходит прежде всего благодаря усилению возможности реализации индивидуальной свободы, что характерно как для Запада, так и для других частей мира. Одновременно наблюдается ослабление всех связей общественного государственного устройства и форми-
рование взамен горизонтальных связей между людьми по поводу участия в совместном проекте жизни. Существующие модели развития национальных экономик требуют соотнесения этических идей капитализма с этическими принципами, которые сохраняются и самовоспроизводятся национальными культурами, но низкая моральная атмосфера «новых капитализмов», анархия и апатия в обществах этого типа соседствуют как с проявлением творческого поиска, свойственного западному капитализму, так и с разрушительным или аморальным использованием свободы. Не оправдались надежды либералов на капитализм как на источник производства благ и идеальный механизм распределения ресурсов. Практика показала, что произошло не смягчение, а усиление неравенства между странами, континентами, культурами, социальными общностями, людьми; даже новые технологии и экономика знания не способствуют освобождению человека от рабства тяжёлого и физического труда и невежества, а способствуют появлению обездоленных, обезкультуренных слоёв, которых А. Тойнби называл «внутренними варварами». Что интересно, слои эти, тем не менее, вписываются в общее коммуникативное пространство, в отношения обмена и потребления, где любой акт обмена есть и акт потребления. Выде- ление социальных слоёв при этом определяется тем, что одни из них выступают как акторы капиталистической системы хозяйствования, являются хозяйствующими субъектами, другие же постепенно образуют группы, либо ориентирующиеся на прямые отношения зависимости (например, с работодателем), либо так или иначе занятые в сфере обслуживания (дизайнеры, консультанты по любым проблемам, учителя танцев, специалисты по коррекции фигуры ит.д.). Важно, что относительность свободы, получаемой последними, в качестве свободы от прямого включения в отношения «вещной» (по Марксу) зависимости от производства на самом деле производством и формируется. Однако для целей нашего анализа представляется важным выделить в отдельную группу те субъекты экономической деятельности, которые непосредственно заняты в процессе производства благ, и те, кто регулирует и контролирует эти процессы, управляет ими от имени общества. Субъекты же экономической деятельности, в том числе предприниматели, находятся в несколько лучшем положении: отталкиваясь от первоначального тождества со своей главной функцией производить действие из себя и собой, они разнообразят свои роли в производственной деятельности, сфере своей активности. Проходящие вместе с модернизацией общества персональную модернизацию, они вырабатывают новые свойства: стремление полагаться на себя в устройстве жизненного пути, ценить и измерять время, свободнее перемещаться в пространстве, добиваться эффективности своего труда, личной свободы и благополучия.
«Новый» капитализм в России стремительно воспроизводит знакомые и многократно описанные процессы, однако существует и развивается на базе доминировавших прежде псевдосоциали-стических отношений, создав новые типы отношений, которые можно назвать и не вполне антагонистическими и не вполне классовыми. Но прежде чем анализировать поведение экономических субъектов, акторов, условимся, что каждый хозяйственный субъект предстанет некоторым условно коллективным целым, действие которого не может быть объяснено из действий отдельных его членов.
Российский вариант капитализма после так называемой «либеральной» реформы «легко» выделил из среды «одинаково средних» множество весьма разнообразных по структурноорганизационному принципу действующих хозяйствующих субъектов. Пожалуй, ещё быстрее появилось другое множество — законодатели и государственные чиновники, чьей задачей было формирование и регулирование институциональной среды для всех форм хозяйственной деятельности. Для западного общества, в котором капитализм «умнел» постепенно, меняя под давлением классовых конфликтов и предлагаемых для их разрешения технологий управления мотивы и вырабатывая общие интересы, культура отношений выкристаллизовывалась постепенно. Онтология неоклассической экономической теории стоит на постулате принципа методологического индивидуализма, характерного для определения культурного основания хозяйственной деятельности индивида. Мы можем сколько угодно говорить об «узости» этого подхода, но дело своё этот индивидуализм сделал — воспитал экономического эгоиста в массовом масштабе. В России всё было иначе. Вот как вспоминает об этом уже в тюрьме опальный олигарх М. Ходорковский: «В гайдаровские времена идей переустройства страны в целом как исторического здания, у меня не было, но было видение “переустройства” экономики. Я был сторонником создания и последующей приватизации не отдельных предприятий, а промышленных комплексов по типу “Газпрома”. Мы в правительстве называли это активной промышленной политикой (не только создание, но и некое целеполагание, определение задач и приоритетов)... Когда мои идеи пришлись не ко двору, я ушёл, предупредив, что воспользуюсь той дурью, которую они понапишут... Зато потом — и вот здесь мы можем говорить о границах дозволенного — я пользовался любой дыркой в законодательстве и всегда лично рассказывал членам правительства, какой дыркой в их законах и как я буду пользоваться или уже пользуюсь» [2, с. 360]. Далее Ходорковский пишет о времени сегодняшнем (худшем, по его мнению, по сравнению с прошлым), характеризуя его как время, «когда люди ощущают полную безответственность при “правильности” политической позиции» [2, с. 362]. Конечно, мнение одного человека значит не так много, но многочисленные социологические исследования, проводимые в пореформенные годы, выделяют как проблему отсутствие укоренённости культуры взаимодействия между агентами капиталистического производства в России: предпринимателями, нанятыми работниками и бюрократией или государством. Экономика же как сфера практического разума должна давать возможность выбора того, «что делать?» и «как делать?», учитывая целера-циональность направленности деятельности, обретать ценностный характер этой деятельности [3, с. 9-10]. Неолиберализм, провозглашённый как политика, привёл начавшуюся российскую «лихорадочную» модернизацию к состоянию, близкому к анархическому порядку, включающему слабость центральной власти, коллективных представлений, социальных институтов. В воспоминаниях многих членов правительства Е. Гайдара есть упоминание о том, насколько «новой» для них была наука об особенностях того варианта рыночной экономики, в одежды которой они собирались рядить Россию, проведение экономических реформ проводилось на «живульку» некомпетентными специалистами, правила «игры» всё время переписывались. Поиск быстрых путей, а не объяснение, понимание и управление социальными трансформациями, полное отрицание и разрушение прежнего опыта — вот что стало российской реальностью на долгие годы. Радикальный вариант реформирования российской действительности привёл к демодернизации, стремление рекуль-туризировать массы — к оживлению архаических начал, демократизация— к странному симбиозу анархичнских тенденций с возвращённым режимом всевластности государства, рыночные тенденции — к экономике, чей неформальный характер делает её ни рыночной, ни государственно регулируемой. Но самое главное — «экономический человек» как актор, распространяющий «рациональное действие» как цель реформы, как ценность, в большом количестве так и не появился. Зададимся вопросом, почему это произошло или, наоборот, не произошло? Реформаторы были, безусловно, убеждены, что они наследники идей западного либерализма. В их представлении демократия есть продукт экономического развития, рынок ставился во главу угла общественных преобразований. Природа человека понималась теоретически по формуле «человек — природный эгоист, ориентированный на получение максимума удовольствия при минимуме издержек». Практически к тому времени (А. Смит) такой человек уже существовал, но определился в своей сущности как человек экономический благодаря уплотняющемуся полю либерализма. Однако М. Фридман, чьими критическими идеями вдохновлены были реформаторы, полагал, что, во-первых, отмеченная природа человека мыслится как всеобщая; во-вторых, исключения воспринимаются как особенности традиционных докапиталистических обществ (Россию он относил именно к таким, и несмотря на размах индустриализации) или как следствие недостаточности модернизации в капиталистических; в-третьих, эта природа присуща всем людям в обществе, а не только непосредственным акторам капиталистического производства [5]. Уместно, полагаем, уточнить точку зрения А. Смита, который считал, что существует различие между индивидуализмом (эгоизмом) истинным и индивидуализмом ложным. Истинный индивидуализм опирается на возможности спонтанного социального порядка, в котором созданы социально-культурные условия для того, чтобы индивид смог преследовать свои интересы с пользой для других. Ложный же индивидуализм основан на соблюдении правил поведения (определённых, например, рамками закона и санкциями за невыполнение), внешнего следования объявленной морали и политическим реляциям власти. На основе исследований особенностей современных практик экономических агентов можно сделать вывод, что, как ни парадоксально это звучит, условий для возникновения автономного ответственного (истинного) индивида не создано, зато ложный индивид аккуратно и массово появляется и воспроизводится.
Современные экономсоциологи предлагают анализировать современное состояние практик экономического поведения агентов капиталистического производства через призму политикокультурного подхода, предложенного Н. Флигс-тином. Используя концепцию социального поля, выработанную П. Бурдье [1], Флигстин предлагает рассматривать социальные действия экономических акторов как происходящие на организованных полях, сферах или в организованных пространствах. Поля включают коллективных акторов, пытающихся создать систему доминирования в этом пространстве, и, чтобы этого добиться, необходимо сделать возможным появление локальной культуры, определяющей характер специфических социальных отношений между акторами [4, с. 33]. Такие локальные культуры должны содержать когнитивный элемент, являющийся для акторов интерпретативной рамкой, помогающей акторам выстраивать социальные отношения, истолковывая собственную позицию во множестве социальных отношений. Флигстин называет тех коллективных акторов, которые в большей степени выигрывает от существующего порядка, обладающими властью, а тех, кто выигрывает в меньшей степени, — претендующими на властные позиции [4, с. 34]. Единожды возникнув, считает он, взаимодействия в полях становятся играми, в ходе которых группы в данном поле, обладающие властью, используют принятые культурные правила для воспроизводства своей власти.
В центре внимания теории полей П. Бурдье находится процесс возникновения нового социального пространства, в частности, то, как оно становится стабильным и сохраняет это состояние. В связи с этим социальный порядок государства представляет собой набор полей, или политических сфер, где акторы претендуют на способность создавать и поддерживать правила, которые для них становятся обязательными. В современных обществах эти порядки управляются с помощью норм формальных (конституции и законы) и неформальных (практика). Однако порядок, движителем которого является этика справедливости, не даётся простым чувством эмпатии — не рождается сам по себе ни в политике, ни в бизнесе, ни в обществе. Такой порядок требует «искусственных добродетелей» (Ю. Хабермас), к которым сегодня относится и справедливость, и компромисс, и сознательный выбор особого морального и этического поведения. Для России, где традиция разрушалась не раз, это особая проблема, ибо выбор этот происходит в деструктивном этическом поле. Что может послужить этической ориентацией для этого выбора сегодня — идеал и пафос сурового монастырского труда (о котором вдруг разом заговорили российские СМИ в связи с круглой датой жизненного подвига С. Радонежского).
Несовпадение меры практичности, меры этичности и меры моральности в отношениях между группами конкурентов, в поле пространства, создаваемого для деятельности, существовало и будет существовать всегда. Однако в «идеально» построенных отношениях оно не служит препятствием для приемлемых отношений экономических конкурентов, экономических акторов и основных агентов экономики — работодателей, работников и бюрократии. Первые имеют этику дела и вступают в отношения со вторыми, призванными государством бюрократами, для того, чтобы это дело исполнять. Вторые могут эту этику понимать, признавать, принимать, они могут подчиняться экономическим мотивам, получая квалификацию и уважение к себе. Третьи устанавливают границы дозволенного для первых и вторых. В России подобные отношения между коллективными экономическими агентами складываются в конфликте мер рациональности, этичности и морали. Собственно, кажется всё так и быть должно, ведь капитализм в России — это заимствованный опыт, слабо одушевлённый локальными культурами прошлого, дореволюционного времени, когнитивный элемент которых в своё время просто не успел создать пространственные рамки полей. Однако на начальном этапе моральные и религиозные ограничения должны быть хабитуализирова-ны, институциализированы в коллективных представлениях всех участников большой экономической игры, а этого как раз не произошло. Этика капитализма должна при этом не декретно, а путем долгой последовательной работы превратиться в этику общества, но тогда весь вопрос состоит в том, способно ли общество эту этику принять, не искажая при этом её харизматическую сущность.
Быстрее всех приходит к пониманию сущности экономического действия бизнес-сообщество, вступающее в отношения, сформированные иной культурой, вынужденные её, эту культуру, понимать, принимать, считаться с ней. Правда, на внутреннем российском рынке дела обстоят иначе: бизнес-сообщество тяжело корректирует себя на уровне честности, доверия, обязательств, экономической рациональности (а не жадности). Большой бизнес регулирует корпоративная этика, рождённая практикой международных экономических соглашений и обязательств, в свою очередь он даёт пример, создавая прецедент среднему и малому бизнесу. Не секрет, что история большого бизнеса в России связана с его криминализацией, но со временем большие корпорации стали нуждаться в защищающей их в глазах общества корпоративной этике. Наши исследования показали, насколько выгодны районам, где размещаются добыча и переработка, например, нефти социальные проекты культурной, образовательной, религиозной и иной общественно полезной направленности, осуществляемые в рамках декларируемой корпоративной социальной ответственности. Можно сказать, что в мире встречаются ситуации, когда бизнес даёт уроки нравственности коррумпированным властным бюрократическим структурам. К большому сожалению, это не российский опыт. Когда-то М. Кастельс, продвигая идею о том, что современное общество движимо обменом информации через сети, сделал вывод, что при этом увеличивается число моделей поведения и измененяется характер взаимодействия между и индивидами, и группами, организованными формами деятельности, социальными структурами и социальными институтами. Мы уже наблюдаем развитие сетевого общества, мы уже живём именно так, и новых моделей поведения, несомненно, уже появилось и появится множество, важно, чтобы поведение это не стало примитивной адаптацией к обстоятельствам, сохранило рациональность, упорство в стремлении остаться самим собой. Этика поведения экономических агентов российского общества не должна быть транспортирована извне вместе с этикой проникающего в результате глобализации капитализма как инструмента преобразований. Попытки «оживить» её с помощью идей прошлого величия, гордости, патриотизма к созданию конструктивной среды не приведут. Этика бизнеса здесь может сыграть свою роль в формировании нового уклада, если бизнес проникнется этикой справедливости и этикой ответственности. И мы полностью согласны с мнением Н. Флигстина, что особую роль здесь бу- дет играть образование, именно в него разумнее всего вкладывать государству и деньги и труд.
Список литературы К проблеме выявления особенностей практик экономического поведения на рынке труда России
- Бурдье П. Социальное пространство: поля и практики: пер. с фр./сост., общ. ред. пер. и по-слесл. Н.А. Шматко. СПб.: Алетейя; М.: Ин-т эксперимент. социологии, 2005. 576 с.
- Улицкая Л.Е. Священный мусор. М.: Астрель, 2012. 476 с.
- Хабермас Ю. Демократия. Разум. Нравственность. М., 1995. 256 с.
- Флигстин Н. Архитектура и рынок: экономическая социология капиталистических обществ XXI в.//Экономическая социология. 2013. Т. 14., № 1. С. 28-53.
- Фридман М. Четыре шага к свободе//Общественные науки и современность. 1991. № 3. С. 16-19.