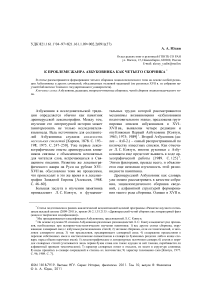К проблеме жанра Азбуковника как Четьего сборника
Автор: Юдин Алексей Александрович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Четий сборник как феномен литературной культуры русского средневековья
Статья в выпуске: 8 т.10, 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается формирование четьего сборника энциклопедического типа на основе особой редакции Азбуковника и других сочинений, объединенных толковой традицией (по рукописи XVII в. из собрания научной библиотеки Томского государственного университета).
Азбуковник, редакция, вопросно-ответные сборники, четий сборник энциклопедического типа
Короткий адрес: https://sciup.org/14737602
IDR: 14737602 | УДК: 821.161.1'04-97+821.161.1.09+002.2(091)(57)
Текст научной статьи К проблеме жанра Азбуковника как Четьего сборника
Азбуковник в исследовательской традиции определяется обычно как памятник древнерусской лексикографии. Между тем, изучение его литературной истории может заинтересовать не только исследователя-языковеда. Ведь источником для составителей Азбуковника служила книжность нескольких столетий [Карпов, 1878. С. 193– 198; 1975. С. 247–250]. Уже первые лексикографические опыты древнерусских книжников связаны с объяснением непонятных для читателя слов, встречающихся в Священном писании. Развитие же лексикографического жанра на Руси на рубеже XVI– XVII вв. обусловлено теми же процессами, что происходят в это же время и в лексикографии Западной Европы [Алексеев, 1968. С. 46–60].
Большая заслуга в изучении памятника принадлежит Л. С. Ковтун, в фундамен- тальных трудах которой рассматриваются механизмы возникновения «азбуковников подготовительного этапа», предложена группировка списков азбуковников в XVI– XVII вв., выявлены четыре редакции и опубликован Первый Азбуковник [Ковтун, 1963; 1975; 1989] 1. Второй Азбуковник (далее – Азб-2.) – самый распространенный по количеству известных списков. Как отмечает Л. С. Ковтун, многие рукописи с Азбуковником еще предстоит выявить в ходе археографической работы [1989. С. 125] 2. Этими факторами, прежде всего, и объясняется еще неполная изученность этой разновидности памятника.
Древнерусский Азбуковник как словарь уже можно рассматривать в качестве собрания, энциклопедического сборника сведений, с алфавитной структурой формирования такого рода сборника. Однако в XVII в.
* Статья подготовлена в рамках аналитической ведомственной целевой программы «Развитие научного потенциала высшей школы (2009–2011)», проект № 2.1.3/12135: «Древнерусский четий сборник как литературный факт (канон и творческие модификации)».
Азбуковник в своем жанровом развитии уже приобрел устоявшиеся границы, и вести речь об Азбуковнике как о четьем сборнике нужно с привлечением его окружения в рукописях. Тем важнее нахождение и истолкование тех текстов внутри самого Азбуковника, которые выходят за границы жанровых особенностей древнерусского словаря. Ряд произведений, постоянно сопровождающих Азбуковник и относящихся к так называемой «грамматической» линии, помогает на первоначальном этапе исследования отнести его к той или иной редакции [Юдин, 2010. С. 145]. Памятники, не встречавшиеся прежде в конвое словаря, отражают индивидуальные вкусы составителей сборников, однако объединение в один сборник произведений разных жанров можно объяснять, кроме литературных пристрастий составителя, и функциональной направленностью такого рода книги. Формально рукописи, содержащие Азбуковник, в окружении произведений, как постоянно сопровождающих словарь, так и появляющихся в его конвое впервые, можно отнести к энциклопедическим сборникам.
Окружение Азб-2 характерно относит его к грамматической традиции. Зачастую рукопись с этой разновидностью Азбуковника может состоять лишь из самого словаря, Предисловий к нему и нескольких произведений, чаще всего встречающихся в сборниках с этой разновидностью памятника («Сказание о письменах» черноризца Храбра, Предисловие Иоанна экзарха Болгарского к переводу «Богословия» Иоанна Дамаскина и др.). [Юдин, 2010. С. 142, 145].
В ходе предварительной работы с рукописями, содержащими Азб-2, на основании как внешних признаков (конвой, владельческие записи и т. п.), так и текстологических разработок нами выделяется группа списков, имеющих определенную общность окружения в рукописях, сходный состав буквенных и тематических разделов и толкований. К наиболее типичной для этой разновидности Азбуковника на данном этапе изучения относится рукопись из собрания МДА № 199 3, входившая в состав библиотеки Симона Азарьина 4. Эта редакция
Азб-2 представлена также рукописями из собрания академика М. Н. Тихомирова № 84 и 99 [Тихомиров, 1968] и рукописью из собрания НБ ТГУ Витр-758 [Юдин, 2010. С. 145].
При детальном сравнении МДА № 199 с томской рукописью Азбуковника (НБ ТГУ Витр-856 5) обнаруживаются схожие состав и порядок словарных статей, а также выявляются принципиальные различия в составе буквенных и тематических разделов.
Рукопись Витр-856 6 представляет собой сборник в 8° XVII в., написанный скорописью разных рук. Рукопись распадается на три литературные части 7: «Сын церковный» (лл. 1–100) 8, Азбуковник с Предисловием к нему (л. 103 – 272 об.) и «Вопросы и ответы Афанасия Александрийского князю Антиоху» (л. 282 – 379 об.). При этом два последних объемных сочинения, по нашему мнению, написаны одним почерком 9, тем же писцом сделана приписка на последнем листе с «Сыном церковным». Таким обра- зом, переписчика Азбуковника можно считать составителем данного сборника.
В комплексе с текстом Алфавита, или Азбуковника (в рукописях принято различное наименование древнерусского словаря; в томском сборнике присутствуют оба названия, о чем говорится уже в Предисловии и в первой статье словника: «[А]льфавит гречески глаголем, словенски же Азбуковник», л. 110), как правило идут сочинения грамматического характера, что обусловлено направленностью словаря. В Витр-856 они отсутствуют. Словнику предшествует Предисловие, которое носит название «Предлогъ Альфавиту» (л. 103–110). Заголовок Предисловия помещен в виде колонтитула на листе, открывающем Азбуковник, над рукописной заставкой, имитирующей печатную. Список Азбуковника не завершен, он занимает л. 103 – 272 об. рукописи, словник обрывается на буквенном разделе «П». Раздел на букву «П» открывается на 264 листе, следующий лист начинает новую тетрадь, бумага которой отличается от бумаги предыдущих тетрадей, здесь происходит также резкая смена почерка и чернил, хотя толкование статьи продолжается. Для написания начальных букв статей и заголовков объемных, по сравнению со словарной статьей, сочинений, входящих в словарь, оставлено место, однако киноварные буквы вписаны лишь частично; инициалы, открывающие буквенные разделы, отсутствуют на всем протяжении томского Азбуковника.
К характеристике Предисловия к Азбуковнику скажем, что оно несколько расширено по сравнению с представленным в рукописях, содержащих Азб-2. Расширение это произошло за счет вставки примеров, не встречавшихся ранее в Предисловии. Так, при комментировании случаев смешения значений слов с близкими написаниями уже имеющееся в Предисловиях противопоставление «кедр» и «китр» (в значениях «кедр, дерево» и «лимонное дерево» соответственно), дополнено противопоставлением «финик» и «феникс». Такое дополнение со ссылкой на псалом с приведением цитаты («праведник яко финик процветет»; л. 105 об.) 10, можно объяснить следствием мнемонической отсылки книжника к 91 псалму. Слово «кедр» здесь получило объяснение, а «финик» – слово, имеющее в рукописях вариативное написание «финикс», – нет. Толкуя далее псалом, книжник поясняет: «Во дворех Бога нашего процветут, си-речь в печных жилищах, в них же благих уповани их процветут, и явлени в будущих временах будут, и уподобляет же ся Христу и всякии праведник». Буквально через две строки он вспоминает о «трех отроках в печи огненной». Упоминание о них связано с толкованием перевода 2-го стиха 8-й песни Канона Рождеству Христову: «Органы пла-чевнии уклонишася, не видеша в любодея-ниих». И дает более верный вариант перевода: «Органы плачевнии уклонишася, не певаху в чюжей земли». Таким образом, Предисловие перестает быть простым набором примеров, руководство к Азбуковнику обретает внутреннюю логику повествования, где каждая объясняемая лексическая трудность может порождать новую.
Общим местом предисловий к разным типам Азбуковника является упоминание Максима Грека как зачинателя традиции составления подобного рода произведений 11. Обычно имя святогорца в Предисловии к Азбуковнику сопровождает эпитет «премудрый». В томском Азбуковнике в предуведомлении к словарю Максима называют «преизящным» и «премудрохитроносным» (л. 108). Примечательно, что слово «преизящный» в значении превосходный, выдающийся , совершенный употребляется в XVII в. в кругу деятелей книжной справы: в сочинении Ивана Наседки «Прения о вере» применительно к Дионисию Ареопаги-ту, в «Слове похвальном» Семена Шаховского, в печатном сборнике «Скрижаль», в работе над которым принимал участие Евфимий Чудовский [Словарь русского языка…, 1992. С. 238].
Некоторые ошибки редактора-переписчика словаря могут объяснить, что именно томская рукопись является краткой редакцией Азб-2, а не наоборот. Таким доказательством может служить оставленная глосса к статье, удаленной из окончательного кедр, иже в Ливане умножится. Насаждени в дому Господни, во дворех Бога нашего процветут».
текста томского варианта Азб-2 12. Ошибка книжника вполне объяснима. Не всегда при чтении текста словарной статьи можно отнести к ней определенную глоссу на полях, так как зачастую глоссы могут находиться достаточно близко друг к другу, образуя своеобразную колонку. Следует подчеркнуть эту особенность глосс при комментировании ими очень кратких словарных статей. При создании списка книжник, писавший томский вариант Азб-2, вынужден был часто останавливаться и сличать уже написанные глоссы с исходными данными. Пропущенные статьи он вносит тут же при сверке, а не в концах словарных разделов, как это обычно делалось (см.: [Ковтун, 1989. С. 38]).
В некоторых случаях такую работу книжника можно объяснить, обратившись к тексту Азбуковника Витр-856. Так, при переписывании раздела на букву «И» книжник ориентируется на тематические группы («Гради», «Имена монастырям» и т. п.) внутри блока словарных статей. В разделе «Имена камениям» книжник сверяет написанное, добавляя нужные ему, но выпущенные при переписке статьи. Обычно завершающими разделами словника являются «Имена месяцам» и «Имена человекам» 13.
Предположительно, создатель томского Азбуковника, переписав уже большую часть статей на букву «И», и принял следующий раздел («Имена камениям») за один из завершающих, однако после толкований названий камней на букву «И» в Азб-2 следует около двадцати других статей, не входящих в определенные тематические группы. Остановившись на этом месте и произведя сверку, книжник, однако, не включает в свою редакцию Азбуковника тематическую группу «Имена камениям». Видимо, он посчитал излишним приводить ее в этом буквенном разделе, так как переделка сочинения Епифания Кипрского «Слово о двенадцати камыку» переписана им в следующем буквенном блоке «К». Таким подходом писца рукописи можно объяснить не только «чересполосицу» статей внутри тематических разделов, но и определить важность тематических разделов и отдельных статей при включении в список Азб-2 (томский вариант). Кроме того, данный пример показывает, что, приступая к созданию нового списка, а по сути к иной редакции Азб-2, автор этого списка хорошо ориентируется во внутренней структуре словаря, что позволяет ему отказываться от дублирующих глосс. Однако в некоторых случаях в результате недосмотра писца одна статья может разрываться вставленной глоссой, отчего продолжение толкования теряет смысл. Так, в толкование статьи «Дионисия» вставлены: «Диполкъ, ослаблен, и вифеом безумия сего почитающа. Дисемилиею, треско-мой кланяемо и молния покланяемо» (л. 142 об.; должно быть: «…и вой ослабевшей, и фивеомъ безумие сего почитающее, и Семелиею молния поклоняема» 14). Таким образом, из всех тематических разделов автор редакции Азбуковника последовательно выделяет лишь части, посвященные толкованию названий монастырей, городов и ономастике. При этом последний раздел приводится со всей возможной полнотой и с соблюдением порядка следования толкуемых имен друг за другом, исключения редки. Столь тщательное копирование в Азбуковнике тематического раздела, посвященного именам собственным, вполне объяснимо: эта часть Азбуковника является ономастиконом, составленным Максимом Греком, – «Толкованием именам по алфавиту» [Ковтун, 1975. С. 116–205].
Среди лексикографических и литературных источников словаря важное место занимают сочинения Максима Грека. Имя святогорца, освященное грамматической традицией, закономерно упоминается составителями Азбуковника уже в Предисловии к словнику. В Азбуковнике находятся не только отдельные слова, толкование которых взято из сочинений Максима Грека, порой авторы Азбуковника не ограничиваются словотолкованием, а приводят обширную цитату из Максима, словарная статья приобретает, таким образом, характер небольшого сочинения Максима Грека, при этом идет указание с помощью отсылок к источникам на полях, из какой главы собрания сочинений взят тот или иной отрывок.
Однако «Предисловие именам человеческим», предуведомление к ономастикону, автор томского списка удаляет, как нам представляется, намеренно. В отличие от Предисловия ко всему Азбуковнику оно не несет утилитарной нагрузки, не служит руководством к пользованию словарем личных имен. Такое отношение к тексту памятника может объяснять цель создания новой редакции словаря, – получение справочного пособия, необходимого в повседневной книжной работе. Это подтверждает и повсеместное удаление при создании новой редакции других объемных частей Азбуковника.
Несмотря на то что наиболее древние тексты, согласно средневековому мировоззрению, имеют более весомый авторитет, создатель томского списка последовательно удаляет из словника разделы, заимствованные из греческо-русского словаря-разговорника середины XV в. «Речь тонкословия греческого» [Никольский, 1896; Vasmer, 1922; Ковтун, 1963. С. 326–383]. В Азбуковнике вставки из этого произведения обычно отмечаются на полях по всей длине столбца со статьями словом «гречески». Следует оговориться, что удаление этих статей не всегда осуществляется полностью. Как правило, в томскую рукопись попадают статьи, начинающие вставку из «Речи тонкословия» и не охваченные указанием на полях. Если статьи напрямую не связаны с разговорной речью, а посвящены толкованию некоторых понятий, тематически близких к толкуемым ранее, они также попадают в Азб-2 томского варианта. «Речь тонкословия греческого» близка к Азбуковнику на уровне структуры: здесь уже есть, хоть и для небольшого пласта лексики, разбиение статей на тематические группы (О стадех, Рыбы, О зверех и др.). Статьям из этих тематических разделов составитель также дает право находиться в рукописи.
Избавление словника Азбуковника от разговорных греческих фраз, посвященных реальным языковым ситуациям (торговля, морское плавание, пребывание в монастыре и т. д.), может еще раз подтвердить цель создания новой редакции произведения – создание книжного словаря, необходимого в литературной работе, а не в живой речи. В оппозиции греческий язык (язык современной книжнику эпохи) – еллинский язык (древнегреческий) предпочтение отдается последнему. В списках Азбуковника слова, относящиеся к тому и другому маркирова- ны. Указание на то, к какому языку относится толкуемое слово, обычно приводится над ним в виде начальной буквы, написанной киноварью (например, «а» – из арабского языка). Объяснение этих указующих отметок приводится в Предисловии к словарю. Предисловие Витр-856 содержит такое объяснение, тем не менее указания на язык толкуемого слова в нем не приводятся, что объясняется, по-видимому, незаконченностью работы книжника.
В томской рукописи, как уже понятно, порядок статей изменен в соответствии с принципами работы составителя данного Азбуковника. Однако не только изменяется порядок статей и удаляются глоссы, посвященные речевым оборотам, в словник вносятся и иные материалы. Так, место статьи, посвященной толкованию термина «акро-стихида», занимает объемная вставка из текстов, не присущих Азб-2 и не встречавшихся нам ранее в других разновидностях памятника.
Начинают вставку отдельные главы из «Вопросов и ответов Афанасия, архиепископа Александрийского к князю Антиоху». Произведение неразрывно связано с христианской экзегетической традицией. Вопросы и ответы частью «посвящены объяснению различных мест Св. Писания… другие заняты решением более общих вопросов христианского вероучения или вообще человеческого мировоззрения» [Архангельский, 1889. С. 9]. В томской рукописи последовательно идут пять вопросо-ответов произведения (№ 74, 75, 78, 19, 20 15). Уже А. С. Архангельский обращает внимание на две редакции переводного памятника, выделяя еще и Особую, представленную в Изборнике 1076 г. Язык вопросо-ответных глав в томской рукописи заметно отличается от того, что находится в сборнике «Скрижаль» 16, по нашим наблюдениям, он близок к языку текста, представленного в Изборнике 1076 г. Стоит отметить также, что в рукописи Витр-856 вслед за Азбуковником и идет тот перевод этого произведения, что есть и в «Скрижали» (л. 282 – 379 об.).
На л. 173 – 206 об. в Витр-856 находится Толковый перевод Песни песней царя Соломона. Текст Песни песней разделен на отрывки (перикопы), которые сопровождаются толкованиями Филона Карпафийского, епископа римского Ипполита и Григория Нисского. Произведение относится к жанру катен, которые представляют собой сборники толкований, «составленные из экзегетических сочинений разных авторов, посвященных одной и той же библейской книге» [Алексеев, 2002. С. 51].
Текст Толковой Песни песней в томской рукописи не полон, он обрывается на толковании Ипполита к стиху 3.4 (ср.: [Алексеев, 2002. С. 87]). Заключительный пассаж в рукописи: «Тою виною вопиет: обретох и не пущу его. О, блаженых жен держаще за но-зе…». Песнь песней в составе Азбуковника оканчивается на середине предложения, окончание его, – «…да на аер не възлетит». Книжником переписано чуть меньше половины Толковой Песни песней, последнее в рукописи толкование не закончено, оно чуть ли не первое столь объемное, встретившееся писцу. Стоит отметить, что следующее за Песнью песней произведение в рукописи хоть и начинается с другого листа, но органично соседствует с предыдущим, так как этот лист входит последним в тринадцатую тетрадь 17. Оно написано тем же почерком, что и Толковая Песнь песней. Редакция перевода Толковой Песни песней в томской рукописи близка к той, что относится А. А. Алексеевым к Чудовской группе [Алексеев, 2002. С. 40–122]. Толкования стихов 1.1, 1.3 существенно сокращены. Для стихов 1.1, 1.3 («Яко блага сосца твоя паче вина») оставлено лишь толкование Ипполита, для 1.5 («Не зрите мене…») – Филона.
Помещение вслед за Толковой Песнью песней в древнерусских сборниках «Сна царя Иоаса» можно объяснить некоторой схожестью художественных средств в описании персонажей. Эта схожесть отмечена В. Н. Мочульским [1897. С. 100]. Исследователь привлекал текст произведения, открывающий знаменитый Изборник XIII в. (РНБ, Q.п.I.18 (Толстовский сборник толко- ваний XIII в.) 18. В. Н. Мочульским отмечается компилятивный характер данного сочинения, главная цель создания которого, по мнению исследователя, – в аллегорической форме представить отношения ветхозаветной и новозаветной церквей [Мочульский, 1897. С. 101]. С мнением Мочульского о компилятивности произведения (вернее второй, толковой его части) не соглашается В. М. Истрин, подвергнувший труд Мочуль-ского критическому разбору [Истрин, 1898. С. 300–308].
В. М. Истрин доказывает связь памятника с византийской толковой литературой; на основе наблюдений над языком произведения ученый говорит о русской редакции перевода с греческого, восходящей, возможно, «к болгарскому или сербскому оригиналу» [1898. С. 303]. Не принимает Истрин уже и первое положение статьи Мочульского об отнесении Изборника XIII в., первым произведением которого и является «Сон Иоаса», «к разряду так называемых «Каафов»» [Мо-чульский, 1897. С. 99]. Дело в том, что литературная история «Книги Кааф» изучается Истриным в ее отношении к Толковой Палее [Истрин, 1897; 1899].
Мочульский понимает под «Каафами» не одни лишь толкования на Пятикнижие Моисея, но почти все вопросо-ответные древнерусские произведения в сборниках того времени [1893. С. 113–173]. А по мнению Истрина, «Кааф» хотя и связан с произведениями из Изборника XIII в., но имеет определенный состав. Связь же этого произведения с лексикографией и с Изборником XIII в. выявлена Мочульским уже на уровне названия, так как само слово «Кааф» с толкованием «собрание» встречается в словаре «О именах, глаголемых жидовьскым языком, сказано», также входящим в состав Изборника XIII в. [Мочульский, 1893. С. 134; Wątróbska, 1987. С. 170]. В сборнике ОР РНБ, Q.п.I.18 (Изборнике XIII в.) находится и другой словарь раннего периода русской лексикографии: «А се имена жидовьская, русьскы толкована» [Wątróbska, 1987. С. 43– 44]. Следовательно, такого рода сборник может служить к объяснению не только лингвистических трудностей языка Библии, но и образной системы Священного писания, и представляет особую важность, как говорилось выше, для среды литературных деятелей, которые были заняты книжной справой.
Завершают вставку в томский Азбуковник избранные слова Григория Феолога. Впервые опубликованные Н. К. Никольским в научном исследовании, посвященном литературной деятельности Климента Смоля-тича [Никольский, 1892. С. 161–199], «Словеса избранные» приписываются ученым перу именно этого писателя и церковного иерарха XII в.
Однако литературная история памятника довольно сложна, и присутствие общих пассажей в тексте «Словес избранных» и в знаменитом «Послании пресвитеру Фоме» митрополита Климента Смолятича не может прямо указывать на авторство последнего. Как известно, «Сон царя Иоаса» открывает Изборник XIII в. Фрагменты «Словес избранных» также находятся в этом сборнике, относящемся к толковой традиции. На современном этапе научного изучения памятника принято считать, что «в основу Изборника XIII в. и “Словес избранных” положены два общих источника: Книга толкований (на 16 Слов Григория Богослова. – А. Ю .) Никиты Ираклийского и Послание Климента Смолятича» [Понырко, 1992. С. 114].
Кроме того, высказывается мнение о существовании особого сборника или архива, в котором авторы Изборника XIII в. либо «Словес избранных» могли найти толкования Никиты Ираклийского и Послание Климента Смолятича [Там же]. В рукописи Витр-856 содержится лишь фрагмент произведения: три первых вопросо-ответа и № 26 и 30 (по Н. К. Никольскому). Некоторые слова и выражения явно не понимались переписчиком текста. Так, слово «диктатор» во втором вопросо-ответе последовательно заменяется на «диктор», образуя странное выражение «диктор ума», вопрос о пиявице-сластолюбии так и остается без ответа, следом идет другое вопросительное предложение. Вследствие этих особенностей произведение с довольно сложной для понимания образной структурой становится совсем необъяснимым.
На несомненную связь с кругом справщиков указывает и помещение в начале сборника Витр-856 произведения, приписываемого Ивану Наседке «Сын церковный». Недостаточная изученность этого сочинения не позволяет нам говорить о нем более подробно. Однако уже сейчас можно сказать, что сборник Витр-856, – который содержит
1) сочинение, известное под названием «Сын церковный», и особо популярное в среде справщиков; 2) новый перевод «Вопросов и ответов Афанасия ко Антиоху», осуществленный, по мнению Исаченко-Лисовой, при участии Евфимия Чудовского, справщика второй половины XVII в. [Иса-ченко-Лисовая, 1989. С. 195]; 3) имеет в своем составе Азбуковник, словарь, необходимый для работы литературного редактора средневековья, – может считаться особым видом энциклопедического четьего сборника XVII в.
Таким образом, мы рассматриваем рукопись Витр-856 как четий сборник, продолжающий своего рода традицию вопросоответной литературы, призванный служить определенным подспорьем в деятельности справщика, т. е. не столько нужный для чтения на досуге, сколько необходимый «в качестве справочно-практического пособия» [Дмитриева, 1972. С. 174]. Список Азбуковника Витр-856 на первый взгляд относится ко Второй разновидности, наиболее репрезентативна в которой рукопись РГБ, МДА № 199, однако особая редакция Предисловия, обширная вставка Толковой Песни песней с сопровождающими ее сочинениями, выбор редактором определенных статей словника, относящихся к книжной лексике позволяют выделить этот список Второй разновидности памятника в особую редакцию.
AZBUKOVNIK AS A «CHETYI SBORNIK»: A PROBLEM OF GENRE