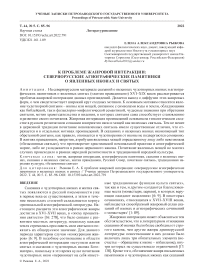К проблеме жанровой интеракции: севернорусские агиографические памятники о явленных иконах и святых
Автор: Рыжова Елена Александровна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Память
Статья в выпуске: 5 т.44, 2022 года.
Бесплатный доступ
На севернорусском материале сказаний о явленных чудотворных иконах и агиографических памятников о явленных святых («жития праведников») XVI-XIX веков рассматривается проблема жанровой интеракции данных произведений. Делается вывод о диффузии этих жанровых форм, о чем свидетельствует широкий круг сходных мотивов. К основным мотивам относятся явление чудотворной святыни - иконы или мощей, связанное с символами воды и земли, обладающими как библейской, так и фольклорно-мифологической семантикой, чудесные знамения при обретении святыни, мотив храмоздательства и видения, в которых святыня сама способствует становлению и развитию своего почитания. Жанровая интеракция произведений основана на типологическом сходстве в русском религиозном сознании восприятия икон и мощей как явленных святынь. Тем не менее в церковной традиции почитание новоявленных святынь имело существенные отличия, что отражается и в отдельных мотивах произведений. В сказаниях о явленных иконах иконописный тип обретенной святыни, как правило, опознается и чудотворения от иконы не подвергаются сомнению. В житиях праведников, напротив, атрибуция явленных мощей определенному лицу либо невозможна («безымянные святые»), что противоречит христианской поминальной практике и агиографической норме, либо не укладывается в рамки церковного канона. Почитание явленных мощей во многих случаях происходило в рамках народной религиозности и традиционной народной культуры.
Мотив, жанровая интеракция, агиографические памятники, сказания о явленных иконах, сказания о явленных святых, жития праведников, русский север, почитание святынь, традиционная народная культура, «безымянные святые»
Короткий адрес: https://sciup.org/147237693
IDR: 147237693 | УДК: 821.161.1.09 | DOI: 10.15393/uchz.art.2022.791
Текст научной статьи К проблеме жанровой интеракции: севернорусские агиографические памятники о явленных иконах и святых
Сказания о чудотворных иконах и жития святых появляются в русской письменности уже в первые века ее существования, а затем в течение нескольких столетий складывается корпус оригинальной агиографической литературы. Настоящего расцвета эти агиографические жанры достигли в XVI–XVII веках, в «эпоху процветания святости» [16: 278], что было связано с развитием местных литератур, поскольку каждая земля стремилась прославить свои святыни и показать их общерусское значение. Для данного периода характерны случаи «конкуренции жанров» [6: 9]. В подобное соотношение в области агиографической интеракции «вступили жития святых и сказания о чудотворных иконах Богоматери», поскольку в это время культ почитания чудотворных икон «перенимает на себя извест-
ные традиционные функции культа святых», так как и тем, и другим «создаются благословенные места (монастыри, церкви), в которых верующие ожидают исцеления» [6: 9]. В некоторых сочинениях, относящихся к XVII–XVIII векам, наблюдается своеобразный жанровый сплав сказаний об иконах и агиографических сочинений о монастырях1 [1: 89].
Жанровая интеракция может объясняться тем обстоятельством, что в литературном отношении сказания об иконах были более свободны от строгого канона, чем другие жанры древнерусской литературы: повествование в них должно было включать лишь три обязательных элемента (несчастье – обращение к иконе – избавление), внутри которых не существовало ограничений [17: 138]. Кроме того, обозначение жанра письменных памятников о чудотворных иконах как сказаний весьма условно, поскольку они, «будучи едины по своей предметной адресности <…> весьма разнообразны в жанровом отношении <…>» и, по сути, отражают названия произведений, данные книжниками [7: 61].
Существующую на сегодняшний день характеристику художественного своеобразия сказаний об иконах, включающую описание мотивов данных произведений, нельзя назвать исчерпывающей для всего многообразия сказаний о чудотворных иконах, в том числе для сказаний о явленных иконах как особой жанровой разновидности. Отметим, что различение двух типов икон – чудотворных, то есть отмеченных чудесами, и явленных, сложилось в русской христианской живописи. Очевидно, что понятие «чудотворная икона» шире понятия «явленная икона», поскольку последняя также отмечена даром чудотворения. Под явленными иконами понимаются «чудесно обретенные, по особенному усмотрению промысла Божия, который нередко сам являл верующим иконы, неизвестной рукой написанные» [23: 33–34]. Агиографические произведения, посвященные описанию обретений чудотворных икон, несомненно, обладают рядом характерных художественных особенностей. Тем не менее жанровую разновидность сказаний, посвященных явленным иконам, исследователи, как правило, отдельно не рассматривают, хотя и называют некоторые мотивы, присущие им.
С произведениями о явленных чудотворных иконах с точки зрения жанровой специфики сходна выделяемая нами особая группа агиографических произведений о явленных святых, чья сюжетно-композиционная структура существенным образом отличается от агиографического канона. В связи с развитием почитания местных святынь подобные произведения появлялись и в других регионах. Однако только на Русском Севере на протяжении XVI–XIX веков сформировался определенный корпус агиографических памятников о явленных святых, что позволяет говорить о тенденции, присущей севернорусской агиографии в целом, и выделить характерный для подобных произведений набор мотивов.
При обозначении жанровых особенностей севернорусской агиографии исследователи использовали различную терминологию. Л. А. Дмитриев применял термин «народные» жития, отмечая, что «героем их становится не государственный или церковный деятель, не подвижник во славу веры, а простой человек со сложной судьбой» [4: 11–12]. Обращая внимание на жанровую фор- му произведений, исследователь назвал подобные жития также «легендарно-биографическими сказаниями» [4: 270]. Занимающийся рассмотрением «религиозности мирян» А. С. Лавров писал о том, что «наиболее интересными» в этой связи «являются персонажи, балансирующие на грани между “разрешенной” и альтернативной религиозностью», рассматривая синодальные документы, в том числе и о севернорусских святых Артемии Веркольском, Параскеве Пиринемской и Иове Ущельском [9: 7]. Ив Левин, изучавшая почитание «непризнанных святых», среди которых севернорусские святые Иаков и Иоанн Ме-нюжские, Иоанн и Логгин Яренгские, Артемий Веркольский, Прокопий Устьянский, Иаков Боровичский, Евфимий Архангелогородский, Вассиан и Иона Пертоминские, назвала их «безымянными чудотворцами» [10: 162–190]. С. А. Штыр-ков именует Иакова Боровичского и Евфимия Архангелогородского «святыми без житий» [25: 130–131]. «Необычными святыми» считает праведных отроков Иоанна и Иакова Менюжских А. А. Панченко, рассматривая их почитание в контексте такого явления русской религиозности, как «безымянные святые» [13]. Е. К. Ромодановская, изучая некоторые памятники севернорусской агиографии, пришла к выводу «об особой их жанровой разновидности», которую она назвала «святой из гробницы» [18: 151].
Наши разыскания показали, что подобные тексты не ограничиваются только сюжетом «святой из гробницы», круг таких произведений достаточно широк. Мы назвали эту жанровую разновидность агиографических текстов «жития праведников». Под праведными как ликом святости понимаются
«канонизированные и почитаемые в качестве святых благочестивые миряне и представители белого духовенства, скончавшиеся своей смертью (не монашествующие, не мученики, не страстотерпцы, которые также преимущественно являлись мирянами, за исключение преподобномучеников или священномучеников, и не юродивые)»2.
В данном лике, таким образом, помимо святых мирян-правителей, которые почитаются с эпитетами «благоверный», «благочестивый», есть и праведные миряне «из числа простых лю-дей»3. Исследователи отмечают, что в русской церковной традиции в лике праведных «представлено большее число подвижников, чем в Византии, хотя этот лик также остается самым малочисленным по количеству представите-лей»4. В русской литературе известен тип жития праведника, в котором показан путь спасения в миру, он, как правило, связывается с именем праведной Иулиании Лазаревской.
К группе севернорусских житий праведников относятся произведения с разными самоназваниями, свидетельствующими, как и в случае с агиографическими памятниками о чудотворных иконах, о жанровой диффузии повествований о явлении мощей: здесь не только жития (« Житие святаго и праведнаго богомудраго отрока новоявленнаго Артемия Веркольскаго чюдотворца»)5, но и явления (« Явление мощей святаго и праведнаго Прокопия Устьянскаго чудотворца и чудеса его»)6, сказания (« Сказание въкратце о праведнем Кириле чюдотворце и о его чюдесех»)7, повести (« Повесть слове -си явления честных и многоцелебных мощей преподобнаго телеси святаго Иякова»)8, слова (« Слово о явлении честных и многоцелебных мощей святаго и праведнаго Иакова Бо-ровицкаго чудотворца и о чудесех его»)9 и др. Кроме того, героями подобных произведений выступают явленные святые, причисленные в дальнейшем церковной традицией не только к лику праведных, хотя таких святых в данной группе большинство, но и юродивых, преподобных, преподобномучеников, святителей, блаженных [19: 391–392]. Следует отметить также вариативность именования подобных святых в рукописно-книжной традиции. Это видно и в приведенных выше самоназваниях памятников об Иакове Боровичском, в которых он именуется и праведным, и преподобным. При всей очевидной условности терминологического определения данной группы агиографических памятников как «жития праведников» она необходима нам для обозначения особой жанровотематической группы произведений, имеющих специфическую композицию и определенный набор мотивов. На чем основана интеракция сказаний о явленных чудотворных иконах и житий праведников, каково сходство и различие этих жанровых разновидностей, рассмотрим в следующих разделах.
ЖАНРОВОЕ СВОЕОБРАЗИЕ АГИОГРАФИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ О ЯВЛЕННЫХ ИКОНАХ
Исследователями выделяются присущие сказаниям о чудотворных иконах определенные мотивы или круг мотивов, при этом их наблюдения не связываются с разными видами икон и произведений о них. Обязательными для данных памятников можно считать мотивы, встречающиеся еще в византийской агиографии: перемещение иконы из одной точки в другую; явление иконы на новом месте с целью его прославления; преодоление водной преграды, выбор места пребывания; храмоздательная «деятельность» иконы на новом месте, заступничество от врагов; целительство иконы или способность к наказанию [11: 107]. Для древнерусских сказаний о чудотворных иконах помимо традиционных выделяются дополнительные мотивы: явление иконы (явление иконы в видении как традиционный сюжетный ход); «укрывательство» героем своего видения; «наказание» за молчание; «обретение» иконы; «неверие»; «запрет» на прикосновение; «узнавание»; чудо от иконы на новом месте; ге-рой-обретатель; чудотворения (заступничество от врагов) [11: 107–110], [26]. В. М. Кириллин также отмечает определенный ряд общих сюжетноповествовательных особенностей произведений, часть из которых можно отнести и к сказаниям о явленных иконах: иконы могут являться «на воздусе», на дереве, на горе, у реки в чудесном сиянии, переносясь с места на место; впоследствии именно на этих местах возводятся часовни, церкви, монастыри; приводятся описания иконописных изображений; упоминаются сопутствующие явлению иконы чудеса; есть особый персонаж – тайнозритель чудесного видения; святыня чудесным образом сохраняется в пожаре; присутствует рассказ о первоначальном неверии людей в случившееся чудо, предопределявшее необходимость новых чудесных знамений [7: 63–64]. М. В. Антонова указывает на ряд устойчивых мотивов, характерных и для сказаний, и для устных преданий об иконах, которые могут быть применимы и к сказаниям о явленных иконах: общерусский мотив «живой» иконы (икона сама выбирает место своего пребывания, где затем основывается монастырь или строится часовня); мотив движения и чудесной остановки в пути; мотив водной стихии (икона обнаруживается на берегу реки, у озера; на месте остановки иконы начинает бить чудодейственный источник); мотив древа, горы, столпа (возвышения), мотив исцеления [1: 89–91]. О разном сюжетном наполнении произведений, связанных с двумя типами икон – писаных и явленных, говорит А. В. Пигин:
«<…> В некоторых сказаниях небожитель, которому посвящена икона, сам повелевает написать ее или приобрести в каком-то месте. Икона может чудесным образом явиться в лесу, на дереве, в дупле, на пне, на камне, на снегу, у источника, может приплыть по воде – в этих случаях она воспринимается как нерукотворная (“яв-ленная”)»10.
Л. И. Журова пишет о двух типах икон и, следовательно, повествований о них. Среди чудотворных икон она выделяет перенесенные, которые «представляли собой списки с образов, писанных евангелистами, апостолами, митрополитами; их “биографии” обычно связаны с именами известных легендарных личностей», а сопряженные с ними события «приобретали исторический характер», и явленные [5: 184]. Явленные иконы «имели хождение в народной среде, были связаны с бытовыми проблемами жизни человека, болезнями, душевными недугами, несчастьями», а основу «биографии» данных икон составляли исцеления [5: 184]. В качестве основного топоса сказаний о явленных иконах Л. И. Журова называет евангельское «чудо целительства Христа (Мф. 11:5; Лк. 7:22; Ин. 5:3–8)», а также один из самых распространенных в подобных произведениях топос «положение иконы на древе» [5: 184].
Ряд константных черт, позволяющих говорить об особом жанровом образовании – легендах о явленных иконах, описывается исследователями при изучении жанра устных легенд о чудотворных иконах. Типологическим мотивом в подобных текстах считается «чудоявление иконы», при этом мотив божественного обретения иконы определяет другие мотивы, среди которых обретение иконы у воды безгрешными людьми, специфический хронотоп (икона является, как правило, ясным весенним утром у водоема, чистой открытой воды или подземного целебного ключа, пробивающегося сквозь толщу земли, – все это связано с представлениями об источниках как священных и целебных); чу-дотворение; трагедийные судьбы икон на земле (икона может исчезнуть навсегда, покидая греховный мир); мотив сакрализации места явления икон (на этом месте возводятся часовни и храмы); культурологическая значимость явления святынь (место обретения становится центром общественной, производственной, творческой, хозяйственной жизни региона); организующая функция икон (они сплачивают людей в самых драматических ситуациях, таких как крестный ход – моление о дожде, помощи в преодолении болезней и т. п.); мотив вторичного обретения святынь как своеобразный залог их бессмертия [24: 163–167]. Данный перечень мотивов в значительной степени пересекается и с письменными памятниками о явленных иконах. Это обусловлено несомненной связью жанра сказаний о чудотворных иконах в целом с устной традицией11 [1: 89–91].
ЖАНРОВОЕ СВОЕОБРАЗИЕ АГИОГРАФИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ
О ЯВЛЕННЫХ СВЯТЫХ
С произведениями о явленных чудотворных иконах с точки зрения жанровой специфики сходна выделяемая нами особая группа житий – жития праведников, которые обладают особенностями с точки зрения сюжетно-композиционной структуры и отличаются от предписанной агиографической традицией модели. Схема агиографического сочинения, определенный жанровый канон были выработаны еще в византийской агиографии. В связи с русской традицией отмечаются следующие структурно-композиционные части, присущие любому житию: предисловие (в риторическом вступлении, как правило, встречаются уничижение автором своих литературных способностей и возвеличивание подвигов святых); собственно житийная часть (в центральной композиционной части находится сообщение о родителях и месте рождения святого, рассказ об учении святого и его пути к святости, описание его подвижнической деятельности, описание смерти святого, причем оно сходно во многих житиях); заключение (в нем содержится похвала святому, наполненная, подобно вступлению, рассуждениями на церковно-философские темы); похвальное слово святому (могло существовать и отдельно, как композиционный эпизод); рассказ о посмертных чудесах [4: 4].
По сравнению с канонической агиографической схемой в житиях праведников Русского Севера отсутствуют такие важные композиционные элементы, как биография святого и описание его пути к святости. При этом в текстах ничего не сообщается и о мирском благочестии праведника, что необходимо для подобного рода произведений: особенностью житий праведных считается мотив подражания праведному Иову (imitatio Iobi), суть которого – «долготерпение, смиренное и благодарное принятие жизненных невзгод»12. Состоят жития праведников в основном из описания обретения и освидетельствования их мощей, которое подтверждает их нетленность, рассказа о переносе мощей в более подобающее для них место и описаний происходящих от мощей чудес. Как правило, это агиографические произведения, связанные с необычной смертью святого [19: 394]. Следует отметить, что в церковной традиции могут прославляться праведные «в момент случайного обретения их нетленных останков, от которых происходят мироточения и чудотворение»13.
Выделим следующие основные мотивы, присущие житиям севернорусских праведников: обстоятельства смерти праведника либо остаются неизвестными, либо не укладываются в рамки церковного канона (вода или земля «издаде» нетленные мощи праведника, или их обнаруживают непогребенными, лежащими прямо на земле); обретение мощей праведника сопровождается чудесными знамениями и исцелениями местных жителей; имя праведника и его биография неизвестны или могут проясняться во время его явлений местным жителям; биографические сведения о святом могут сообщаться в житиях в форме преданий о нем, бытующих в устной традиции края; нетленные мощи праведника с почестями погребают, устанавливают над ними часовню или храм, переносят в уже существующий храм; на месте погребения праведника со временем основывают монастырь; праведник «понуждает» местных жителей к своему почитанию, являясь им в ночных видениях с просьбой перенести мощи на другое место, поставить над ними часовню, написать свою икону и т. п.; сомневающиеся в святости праведника или не оказывающие должного почитания его мощам наказываются, однако прощаются после молитвенного обращения к нему за помощью14 [19: 410].
СОВПАДАЮЩИЕ МОТИВЫ
В АГИОГРАФИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКАХ
О ЯВЛЕННЫХ СВЯТЫНЯХ
В жанровом отношении сближение прослеживается в первую очередь на композиционнотипологическом уровне. Структурно подобные произведения состоят из двух частей: первая посвящена рассказу об обретении мощей / чудотворных икон, вторая часть представляет собой повествования о чудесах от явленных святынь. Отметим, что практически все мотивы, из которых состоят жития праведников, соотносятся с мотивами сказаний о явлении чудотворных икон. Значительное сходство наблюдается в данных текстах в мотиве «явление чудотворной иконы / мощей» .
Эпизод непосредственного обретения иконы занимает важное место и в сказаниях о явленных святынях [11: 108]. Распространенными сюжетами агиографических сказаний о явленных иконах служат описания явлений иконы на дереве или в дереве, на воздухе, появление святыни из земли или около водного источника, приплывающей по воде и др. Так, например, в севернорусских сказаниях и повестях о явленных иконах нередко повествуется об их обретении в лесной куще («мнозем рыболовом у того Соезера в мале куще на стене на сребряне дсце мале изваян образ тоя Пресвятыя Троицы явися» – Сказание о явлении и чудесах иконы Святой Троицы Сое-зерской)15, в большой березе («И тогда немедленно посекоша е и обретоша в нем икону в трех лицах, изображенную предивным начертанием» – Повесть о явлении чудотворной иконы Николая Чудотворца, Параскевы Пятницы и мученицы Варвары в Каргополе)16, около реки на «сухих сучьях» («…вдруг увидел вблиз реки на сухих сучьях образ Божией Матери, ничем не поддерживаемый» – Сказание о Дуниловской чудотворной иконе Божией Матери)17 и др.
Мотивы письменных памятников об обретении святынь имеют соответствия с мотивами устных преданий о явленных иконах. В северной фольклорной традиции частотны рассказы об иконах, приплывающих по воде или являющихся около водного источника (икона великомученицы Екатерины), в лесу на елке (икона Спаса), на огромной сосне (икона Николая Чудотворца), на «кряже»-горе (икона великомученицы Варвары), на пне (икона Ильи-пророка, икона Богородицы) и др. [8: 39–40, 43–44, 87].
Для севернорусских сказаний о явленных иконах характерен сюжетный топос «икона является на горелом пне». Так, согласно тексту Повести о явлении и чудесах Тихвинской иконы Божией Матери в Устюжском уезде, икону обнаружили в лесной чаще на сосновом горелом пне
(«…и поиде к тому реченному месту в лес пусты, и внидох в них, и походихом к Волчьему ручью, и наи-дех сосновой пень горелой. И на том горелом пне явися святой образ Пресвятыя Богородицы Честнаго и Слав-наго Ея Знамения»)18.
Образ горелого соснового пня, как отмечает А. Н. Власов, характерен для народного мифологического сознания, являясь «признаком особой маргинальной зоны между “этим” и “иным” мирами, своеобразным центром, соединяющим “верхний” и “нижний” миры» [2: 238].
Мотив «сакральный предмет является на горелом месте» встречается и в житиях праведников Русского Севера. На горелом месте около храма Николая Чудотворца в Устюжском крае «выходит» из земли, как говорится в Сказании о явлении мощей Петра Черевковского, гроб с нетленными мощами чудотворца («И после того великого пожара явися той гроб, от огня цел»)19. В данном случае примечательны два момента: гроб «сам» выходит на поверхность, гроб является «на погорелом месте» и «близ церкви» [18: 144]. Отметим, что обнаружение мощей пра- ведников под церковным алтарем или вблизи от него было связано с церковной традицией возведения церквей на мощах святых, принятой V Карфагенским собором (правило 10) и утвержденной VII Вселенским собором20.
Согласно преданию, отраженному во всех известных письменных памятниках о праведном Иакове Боровичском, его мощи прилыли во время весеннего половодья на «огорелой колоде», находящейся на большой льдине. В агиографических памятниках о святом особо отмечается, что чудесное плавание происходило против течения:
«Леду же части, зовомо кра, косящуся противу воды силы волн и быстрости велия . И противу быстрости болма быстрость показует правлением силным премудрости Божия неизреченных судеб глубины и имеюще на собе колоду без верху кровли, и та горела, в нейже многоцелебное и бесценное сокровище лежа-ше тело святаго Иякова, по месту того Боровитцкий» («Повесть словеси» о явлении мощей Иакова Борович-ского)21; «…купное с честными его мощи на части леда по реце Мсте реченной, противу водотечию быстру бо-гоподвижне плавствующи , в светлый светлыя недели вторник манием Божиимъ » (Слово о явлении мощей Иакова Боровичского)22.
В данном случае, полагает А. А. Панченко, необходимо говорить о ритуально-мифологической символике приплывания и уплывания, которая «состоит в подчеркивании “потустороннего” (и в т. ч. сакрального) статуса приплывающего (уплывающего) предмета или существа», что опирается на восприятие воды как «области перехода», на представление о воде как границе обыденного и «иного» миров, имеющее широкое распространение в фольклоре и основывающееся на одном из древнейших ритуальномифологических архетипов [12: 135].
В описании явления мощей Иакова Боровичского мы встречаемся с «избыточной» сакрализацией, которая, на наш взгляд, показывает основания для формирования почитания святого, о жизненном пути которого ничего не известно, в рамках народной религиозности: это явление мощей на воде, плавание против течения, явление мощей в горелой колоде. Необходимо также отметить особое отношение в традиционной народной культуре к убитым громом, так как в более позднее время мощи на «огорелой колоде» в народном сознании стали объясняться тем, что святой был убит громом23.
В письменных памятниках рассказ о явлении святынь сопровождается чудесными знамениями. Спектр чудесных знамений в письменных и устных нарративах, связанных с обретением икон, достаточно широк: явление иконы на воде сопровождается плаванием против течения; обретение святыни на горе, на воздухе, в лесу, на дереве, на пне – указанием на чудесные звоны на этом месте («Исперва же слышахуся тем рыболовом звоны почасту и дивяшеся, в недоумении бываху» – Сказание о явлении и чудесах иконы Святой Троицы Соезерской)24, на огненные столпы или лучи, «самовозженные» и «теплящиеся» свечи [8: 39–40, 87] и др.
В севернорусской агиографической традиции явление мощей происходит на воде или из воды, в лесу, из земли, что в значительной степени совпадает со сказаниями об иконах. Явление мощей святых могло быть на воде, как в Сказании о новгородских отроках Иоанне и Иакове Менюжских («пришед к малому оному озерку, уведеша на нем два гроба плавающия»)25, а в случае «водного» явления мощи могут плыть против течения, как об этом говорится в письменных памятниках об Иакове Боровичском. В других текстах сакральными символами, указывающими на место нетленных мощей, также служат различные традиционные для агиографической литературы проявления Божественного света: свечение и свет («и возсия свет от места того» – Житие Артемия Веркольского)26, огненный столп («явися над гробом столп огненный и пребываяй на мног час» – Сказание о явлении мощей Петра Черев-ковского)27, «самовозженная» свеча («и абие виде по вся нощи, и вечер, и утро свеща горяща, иде-же мощи святых лежаху» – Слово о явлении мощей Григория и Кассиана Авнежских)28 и др.
Одним из значимых мотивов и в сказаниях о явленных иконах, и в житиях праведников следует считать мотив храмоздательства: на месте обретения чудотворной иконы или мощей впоследствии возводили часовню, храм, со временем здесь основывали монастырь или переносили обретенную святыню в уже существующую обитель, куда стекались окрестные жители для поклонения святыне и где от мощей происходили многочисленные чудотворения29.
Для письменных памятников о явленных иконах частотным можно считать мотив «икона сама, порой неоднократно, показывает место возведения часовни / храма / монастыря». Основу таких произведений составляют предания об иконах, до сих пор бытующие в устной традиции Северного края [8: 43–44].
В агиографических памятниках Русского Севера этот мотив встречается довольно редко и также основан на устных преданиях, связанных с почитанием святых. Один из эпизодов «Повести словеси» о Иакове Боровичском посвящен рассказу о том, как мощи безымянного святого жители Боровичей трижды отталкивают от берега, обвязав колоду веревками, однако те всякий раз возвращаются (приплывают) на это место: «<…> третие гроб на место приведе, идеже первие уста-вися»30. Здесь впоследствии возвели часовню, куда перенесли мощи святого Иакова.
Мотив неоднократного явления мощей на прежнем месте отражен и в Сказании о явлении мощей новгородских святых Иоанна и Иакова Менюжских: мощи отроков трижды «уходят» с Медведского погоста, являясь плывущими по озеру, для того чтобы их тела «положили» «в пусте оном месте на Менюши, где в мимошедшия времена бысть монастырь»31.
В письменных памятниках о чудотворных иконах и мощах после описания обретения святыни помещаются рассказы о чудесных исцелениях от различных недугов, происходивших от явленных святынь. Зачастую при этом рассказы о чудесах составляли значительную часть произведения, превосходя по своему объему довольно краткие сообщения об обретении святыни. Записи чудес велись, причем иногда на протяжении нескольких столетий, как правило, в той самой часовне, храме или монастыре, где находились святыни.
РАЗЛИЧАЮЩИЕСЯ МОТИВЫ
В АГИОГРАФИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКАХ О ЯВЛЕННЫХ СВЯТЫНЯХ
Следует отметить несколько мотивов, показывающих существенные различия этих памятников. В первую очередь это присущий житиям праведников мотив «обстоятельства смерти праведника остаются неизвестными или не укладываются в рамки церковного канона». Уход святого из жизни вместе с тем является важным моментом жития, поскольку иногда не столько жизнь, сколько смерть проявляла святость подвижника. Способ погребения тел праведников, точнее, их непогребения, выдает в подобных святых умерших не своей смертью, или, как говорится в произведениях, «напрасной», то есть внезапной, случайной, поскольку героями праведнических житий становятся утонувшие, убитые громом, убитые «лихими» людьми, умершие дети и отроки, самоубийцы и т. п. В церковном обиходе – это не успевшие причаститься и исповедаться перед смертью. Первоначально их тела, как правило, не погребают, оставляют лежать «в пусте месте» – в лесу (Житие Артемия Веркольского, История об Афанасии Наволоцком), на берегу (Сказание о Вассиане и Ионе Пертоминских), в деревянном обрубе или срубе (Сказание об Иоанне и Лог-гине Яренгских), обложенными камнями и ветками – «аки хоромина» (Повесть о пришествии Исайи Ручьевского) и т. п. [19: 394, 410–417, 442]. Неслучайны поэтому в житиях праведников мотивы сомнения в святости подвижника и в нетлении его мощей [19: 408–410]. Обусловленным элементом в таких произведениях является мотив освидетельствования явленных мощей, подтверждающий их нетленность. Эти мотивы, как правило, отсутствуют в сказаниях о явленных иконах, поскольку божественная и чудотворная природа иконы не подвергается сомнению. Кроме того, в житиях праведников практически ничего не сообщается о самих святых: ни биография, ни даже их имена. Так, например, согласно Сказанию о Кирилле Вельском, никто не знал о том, чьи мощи вымыло во время весеннего половодья рекой из земли: «Нами неведом тот человек, и про него не слыхали, и имени его не ведаем». Имя праведного Кирилла Вельского вспоминает только старица Акили-на, пересказывая предание о нем местным жителям и священникам Вельского погоста: «Аз слыхала от старых людей о том человеце…»32. Знание имени и биографии святого традиционно и для агиографической традиции, поскольку еще в жизнеописаниях византийских подвижников был выработан ряд специальных топосов: рождение святого от благочестивых родителей, сакральные знаки и знамения, с младенчества символизирующие богоизбранность святого, наречение определенного имени с разъяснением его этимологического смысла и соотнесение этого имени с небесным патроном. Тем не менее отсутствию имени и биографии святого находится объяснение в житиях праведников: это обстоятельство трактуется как божественное произволение – «не человек, но Бог весть раба своего» [19: 403–405], [20]. В житиях праведников произошла трансформация традиционного для агиографии топоса происхождения святого и превращение его в символико-библейское объяснение «небесного» происхождения подвижника, суть которого заключается в используемой книжниками формуле «праведник – житель Горнего Иерусалима» [21]. Она впервые прозвучала в агиографо-гимнографических текстах XVI–XVII веков о праведном Иакове Боровичском, а затем применялась и по отношению к другим русским святым, биография которых была неизвестна. Объяснение «сокрытия» биографии святого Бо- жественным промыслом было использовано впоследствии, по нашим наблюдениям, в Сказании и Службе о явлении мощей праведного Прокопия Устьянского и во Второй редакции Жития преподобномученика Иова Ущельского [21: 33].
Отсутствие мирской биографии и описания пути к святости в житиях праведников создавало проблему отнесения явленных святых к определенному лику святости: в письменных агиографических памятниках одни и те же святые могут называться и праведными, и преподобными, как в случае с Кириллом Вельским, Прокопием Устьянским, Иаковом Боровичским, Афанасием Наволоцким и др. [19: 391–392].
Что касается сказаний о явленных иконах, то здесь иконописный канон всегда опознается: для них характерен мотив узнавания, вариантом данного мотива является копирование иконы . Это связано, как отмечают исследователи, с преемственностью культа иконы [11: 113]. Пожалуй, только в Сказании о Мезенской иконе св. Троицы рассказывается о том, как крестьянин Симеон, обнаружив случайно иконку на снегу, положил ее в свой возок и при этом не знал, что было на ней изображено («Чие же воображение на нем – не зряше, простоты ради своея, неучен бо бе писанию, паче же и поселянин»)33.
История почитания безымянных явленных святых сложна, противоречива и порой драматична. Эти святые почитались как местночтимые, за исключением праведного Артемия Веркольского, получившего в начале XVII века общерусскую канонизацию, и праведного Иакова Боровичского, чье жизнеописание попало в общерусский печатный Пролог 1659–1660 годов [21: 32]. Многочисленные попытки канонизации праведников со стороны местных церковных властей и епархиального начальства не были результативны, зачастую запрещалось даже местное почитание святого, как это было в случае с мощами и иконами Кирилла Вельского по Указу Священного Синода в 1783 году [22: 357–362]. Такое неприятие новоявленных святых со стороны церковной власти основывалось на Постановлении Московского церковного собора 1667 года о «мнимых святых», на «Духовном регламенте» 1721 года о «сумнительных мощах», а также на Указе 1737 года Священного Синода, предписывавшем епархиальным иереям сообщать о почитании всех «мертвых не свидетельствованных телес» [10: 165–166]. При этом народное почитание явленных святынь, как правило, не прекращалось, а трансформировалось в устную традицию, на каком-то этапе вновь отражаясь в письменных текстах. Подобная судьба была и у некоторых явленных икон. В свое время в Сольвычегодско-Устюжском крае необычайной популярностью пользовалось Сказание об иконе Спаса на Красном Бору, имевшее хождение в различных списках, редакциях и вариантах. Однако в 1724–1725 годах Священным Синодом было возбуждено судебное дело «О разглашении Пименом Волковым мнимых чудес от образа Спасителя в церкви села Красного Бора Устюжского уезда»34 [9: 227–243].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Жанровая интеракция сказаний о явленных святых и житий праведников основана, таким образом, на тематическом сходстве, поскольку эти тексты посвящены рассказу о новоявленных святынях, в качестве которых выступают иконы и мощи. Особенности композиции данных произведений связаны со спецификой образа главного героя и традицией местного почитания святынь. Жанровое сближение проявляется в схожей сюжетно-композиционной организации произведений (повествование в них начинается с описания обретения святыни, а следующую часть произведений составляют записи чудес от нее), а также практически в полном совпадении основных мотивов произведений. В наблюдающейся в агиографических произведениях связи чудотворных святынь с основными хто-ническими символами – водой, землей, деревом проявляется отражение народной религиозности и осмысления новоявленных святынь как символов преображения пространства: на местах их обретения основывались населенные пункты, а также часовни, храмы и монастыри, в которых записывались происходившие от святынь чудеса.
Отличия в мотивах произведений отражают существенную разницу в формировании и развитии почитания явленных святынь: чудодейственная и божественная природа явленной иконы не подлежала сомнению в отличие от явленных мощей «безымянных святых».